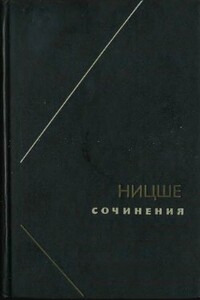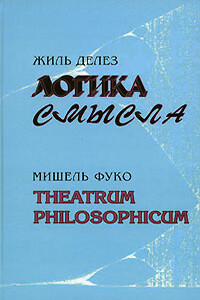Растождествления | страница 28
Протрезвление пришло уже по снесении последней советской твердыни зла. За десятилетиями жесткого противостояния и холодной войны так и не удосужились увидеть родства между бациллоносителями мира с Запада и таковыми же с Востока, и только потом спохватились, что ампутация коммунистического близнеца оказалась не без серьезных последствий для его капиталистического двойника. Элегический вздох Талейрана: Qui n'apas vecu avant 1789, ne connaitpas la douceur de vivre, в сегодняшней редакции звучал бы так: кто не жил на Западе до 1989 года, тому неведома сладость жизни. После падения Берлинской стены сладость пришлось разбавлять такими количествами горького пойла, что от неё осталось одно воспоминание. Если падение Берлина ознаменовало рождение восточнокоммунистического и западнокапиталистического мифов, то падение Берлинской стены было их концом. С чужим несчастьем выплеснули и собственное счастье. История последнего десятилетия стоит соответственно под двойным знаком: конец «империи зла», но и конец «американской мечты», причем последнюю надлежит рассматривать как релаксант первой. К посольству Соединенных Штатов в Берлине когда–то подносили цветы; теперь оно оцеплено автоматчиками. Отцы–основатели American Dream проглядели, с какой легкостью и неотвратимостью мечта переходит в кошмар, если её сновидят не все разом или если те, кто её не сновидят, не отделены от неё стеной, с которой стреляют во всех, кто стремится попасть в чужой сон.
При желании можно знать, что за концом истории скрывается лишь конец историков, тщетно силящихся объективировать свою негодность, а за концом власти её профанация и обезличенность. Если первая половина века страдала элефантиазисом личностного, то в наше время личностное узнается разве что по признаку атрофированности. Формы и институты остаются прежними; меняются лишь практика и метод. Никто не хочет больше осознавать себя венцом творения; наверное, скоро и биологи придут к выводу, к которому уже пришли люди из организации