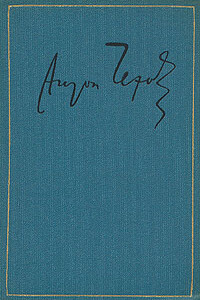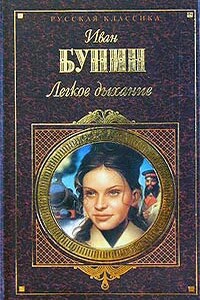Иван-да-марья | страница 84
Брат курил, слушал и говорил:
— Но без точных расчетов и геометрии ничего не построишь. А если от звезды к звезде линии провести, посмотри, какие прямые получатся.
— Но это человеческое. А там, на небе?
— Там свои, не открытые еще нами великие законы, где, вероятно, человеческой геометрии нет, потому что она и родилась из вычислений, сделанных с земли, когда человек смотрел и звезды мерцали, но и тогда ему казалось, что звезды рисуют в небе очертания птиц, зверей, морских океанских рыб. Ты живешь воображением, — говорил брат, — надо быть ближе к жизни, а то она потом жестоко накажет тебя.
«Ах, и зачем все это произошло, — с замиранием думал я, — мы бы все жили в дружбе, лучше бы Кира осталась такой, как была».
Раз донесся до меня разговор Иришки с мамой:
— А как же, барыня, страшно, сердце-то перед венцом не раз ужаснется, об этом и в деревенских свадебных песнях поют. Кирочка полусирота, это ведь нелегко, детство без матери, как поглядишь на нее — есть почти перестала, как она волнуется, бедная.
В день свадьбы стояла неподвижная жара. Как полагалось по старинным обычаям, Кира в это утро брата не видела, — он, одетый, вышел из дома и отправился в церковь, где его ожидали офицеры, а она отдала себя женщинам и, по словам Ириши, в это утро была как бы не своя и уже себе не принадлежала — ее причесывали, одевали, а она, покорно все принимая, благодарила глазами. В доме были шаферицы. Зоя волновалась, так как она первая подруга и ей пришлось одевать невесту.
Кира плохо спала, была очень бледна, ее причесали и одели в приготовленное платье, прикололи фату с флердоранжем, меня позвали, когда она молилась перед образами. Мама ее перекрестила.
— А почему же у вас нет гимназического мундира? — слышал я иронические слова шаферицы.
— Рукава стали коротки, за весну и лето он ужасно вырос, — ответила Зоя.
Я не отвечал. Я был в это утро в хорошо выглаженной рубашке серебристого, очень чистого льна. Киру я не видел с вечера, и сердце мое дрогнуло, когда она показалась в солнце на крыльце дома, на том самом крыльце, где мы так любили сидеть по вечерам, в белом платье с прозрачной на солнце фатой. Мое мальчишеское сердце облилось внезапным холодком, а на дворе было жарко и даже душно. Ее окружали шаферицы в белом и вел под руку со старосветским достоинством Андрей Иванович, посаженный отец, тяжеловатый, торжественный, в английского тонкого сукна костюме.
Я подхватил легчайшую фату, как паж, и мы, оставив маму и Иришу дома, медленным шагом отправились пешком к церкви — так было решено заранее, что не надо свадебных карет, это лишнее на нашей улице. На нашей простонародной русской улице странным и принесенным с Запада казался и католический, принятый когда-то у нас вместо своего подвенечный наряд. В этой шелковой белизне и фате было что-то западное и очень печальное, даже страшное в своей безнадежности.