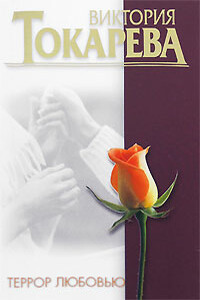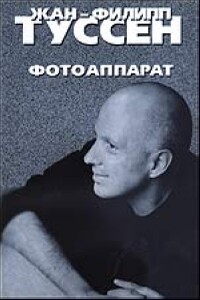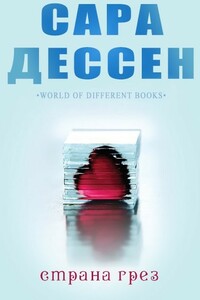Почем килограмм славы | страница 31
Володя сидел с отсутствующим видом и грезил наяву. Это был человек хрупкой душевной конструкции, очень ранимый, и однажды, когда с ним неправильно поговорили на киностудии «Ленфильм», пытался повеситься в поезде по дороге в Москву. Об этом сообщили в институт. Ректор ВГИКа вызвал Володю и участливо с ним беседовал: чего-де не хватает, какие пожелания? Володя бодро отвечал, что все в порядке, лучше не бывает. Страна идет к коммунизму, и он вместе со страной.
Володя рассказывал об этом в лицах и очень смешно изображал себя и ректора. Видимо, ему необходимо было вышутить эту жутковатую страницу в своей биографии, размыть ее насмешкой.
Где он сейчас, я не знаю. Я даже не знаю, жив ли он…
А тогда мы мучительно бились над вариантом сценария, и это действие было похоже на то, как трое людей пытаются войти в дом, но ключ не подходит к замку.
Отец Андрея, хоть и терял свою мощь, какую имел при Сталине, все еще держал студию в кулаке. Он призвал к картине двух самых сильных комедиографов и приставил их, как нянек к неразумному дитя. Один – художественный руководитель. Другой – Доработчик сценария. Они должны были, как два вола, вытащить завязший воз.
Меня познакомили с Доработчиком. Ему тридцать семь лет. Он чем-то напоминает моего рано умершего отца. Я даже знаю чем: выражением лица. Как мужчину я его не увидела. Он прошел мимо моего женского сознания. Скорее как отец. Учитель. Маэстро.
Я стала ходить к нему домой, дорабатывать сценарий. Я живу на Таганке, семнадцать минут до Кремля. От его дома до моего – пятнадцать минут на троллейбусе. И пять минут пешком – до подъезда. Время для работы назначил он: десять часов утра. Я приходила без опоздания, была дисциплинированной, чем выгодно отличалась от предыдущих соавторов. Предыдущие соавторы опаздывали и пили водку. Один из них имел вредную привычку трясти ногой. Это отвлекало, мешало сосредоточиться.
Я не пила водку, не трясла ногой и приходила в точно назначенное время. Звонила в дверь. Мне открывали.
Квартира была огромная, с широким коридором. В недрах квартиры шла своя жизнь – жизнь большой семьи, поставленная на широкую ногу.
Его комната узкая, как купе. Кушетка, низкий стол, на столе пишущая машинка. Мы садились друг против друга, и я застывала, зажатая, как в гипс, своей бездарностью.
Мой рассказ существовал не сюжетом, а иронической интонацией, которую непонятно как перевести на экран. Шукшин говорил: «Чем хуже литература, тем лучше кино». И наоборот. Доработчик тоже не знал, как управляться с чужим миром. Мы сидели друг перед другом, мучились. Я – больше, он – меньше. Для меня этот сценарий был началом начал, мое будущее и настоящее. Это был мой ребенок. А для него – чужой ребенок. К нему тоже хорошо относишься, но не так, как к своему.