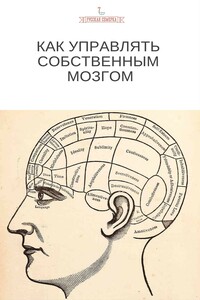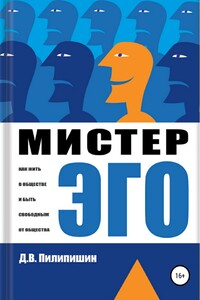Интеллектуальное карате, или Методика достижения победы в диспуте | страница 39
Процессы, внешне кажущиеся собственно-молодежными, а также процессы собственно-литературные, собственно-религиозные, вообще какие-нибудь «собственные» и на первый, поверхностный взгляд кажущиеся узко-частными, вроде отношения к образованию, уровня преступности, уровня молодежной суицидности, роли и места традиций, противостояния глобалистов и антиглобалистов и тому подобное – все поддаются адекватному осознанию при опоре на то понимание причин и направления изменений в обществах, которое обозначено на этих страницах.
Иерархия ценностей
Мы называли так рекомендацию № 5, но здесь рассмотрим подробнее этот ракурс диспутов и споров. В наше историческое время, в эпоху постиндустриальную (ее много еще как называют, желая подчеркнуть именно историческую новизну, не всегда и не всеми понимаемую адекватно) любой и каждый человек гордо ощущает свое право быть индивидом, свое право ни на кого не равняться и самостоятельно определять, что ценно больше, а что меньше для него лично (а мнение остальных безразлично).
Забавно здесь то (при случае укажите на это оппонентам), что ценность или идею, выбранную лично для себя (подчеркивая именно ее особенность и единичность), человек торопится довести до всех, противопоставить всем, сообщить всем о своей «оригинальности» и «независимости» (как бы забывая, или игнорируя тот факт, что «другие» имеют те же стремления).
Легче всего реализовать свою оригинальность, порицая ценности традиционные и всеобщие. Массу примеров низвержения традиционных ценностей, осмеяния их, глумливого противопоставления им ценностей не столько каких-то других, сколько просто противоположных традиционным, мы встречаем в литературе. Так, например, Генри Миллер на первой странице своего романа «Тропик Рака» характеризует свое произведение следующим образом: «Это не книга…Это затяжное оскорбление, плевок в морду Искусству, пинок под зад Богу, Человеку, Судьбе, Времени, Любви, Красоте…всему, чему хотите». Российский писатель Виктор Ерофеев в предисловии к подборке новелл, которую он озаглавил «Русские цветы зла», в качестве общей для авторов подборки характеристики утверждает: «Новая русская литература засомневалась во всем без исключения: в любви, детях, вере, церкви, культуре, красоте, благородстве, материнстве, народной мудрости… Любое чувство, не тронутое злом, ставится под сомнение.»
Как видим, тексты Г. Миллера и В. Ерофеева в этой части вполне совпадают.
Упомянутое «новое время» В. Ерофеев измеряет «с середины 70-х годов» (это именно начало эпохи постиндустриальной – по Д. Бэллу). Текст Г. Миллера моложе на 40 лет, – но вот слова В. Набокова (из «Лолиты») также середины 30-х годов: «Мне представлялись реально ее тяжелые бедра, округлые колени, роскошная грудь и все остальные черты того