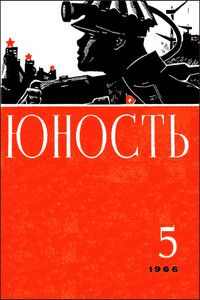Избранное | страница 40
Саша молчит. Он шагает устало. За лесом, у Черновлян, играет баянист Анатолий Николаевич, там сегодня танцы. Козлов срывающимся, почти плачущим голосом торопливо говорит о том, что нет сил, не хватает целой жизни, чтобы рассказать красками о всем этом неслыханном блеске лунной ночи, которая только сегодня единственный раз пришла, а завтра будет другая, и эта уже никогда не вернется.
Скоро артисты отправятся из Черновлян в Калиновку со своим баяном, костюмами, частушками. А мы втроем долго еще будем лежать на полу в голубых квадратах лунного света и под медленным звоном ночных комаров.
Тихим голосом кто-нибудь из нас будет читать Пушкина из голубых страниц раскрытой толстой книги. И будем смолкать, откладывать книгу в сторону и через некоторое время раскрывать ее снова. Потом Козлов из-за перегородки вынесет по стакану деревенского пива. Пиво будет густое, как кисель, оно будет липнуть к губам, и от него ласково потемнеет в голове.
Тогда Есенина возьмется читать Козлов. Он встанет посреди избы босиком, в распоясанной рубахе, поднимет руки и начнет выкрикивать слова, будто с грохотом мчится на тройке, и никто его не расслышит. Он будет читать неумело, будет комкать слова, искажать их, но в голосе его заликует частица того раздолья, которое все мы так любим в Есенине.
Под утро Саша уйдет на чердак. Он будет там писать стихи. Саша никому не решится их прочесть, а просто уйдет утром в Калиновку на очередной концерт.
Но пока за окнами ночь, Саша на чердаке. Саша смотрит на луну немигающими глазами и слышит, как мы с Алексеем пьем пиво, говорим о Пушкине, Врубеле, Скрябине и о Москве.
ЗОРИ РАННЕГО ЛЕТА
Каким бы жарким ни был день, заря всегда прохладна, всегда лес одевается в черный сумрак, и бывает такое мгновение между сумерками и полночью, когда затихло все, и даже молчат комары. Тогда явственно представляется, как в темной тишине лесов замирают и к чему-то прислушиваются не уснувшие на ночь цветы, как притворяется дремлющей пронзительно-белая ночная фиалка и как пахучий ее аромат, подобно сладкому дыму, выходит далеко на поляны.
Звезд почти не видно. До самого рассвета стоит негаснущий отблеск солнца, и над лесами тонко разлита желтизна, напоминающая легкий полусумрак разбавленного китайского чая.
Теперь пора одиноких северных соловьев. Пение их звучно, как-то до грусти однообразно, словно они время от времени повторяют несколько задумчивых фраз и поют вдалеке друг от друга, и каждый говорит о своем. Скажет, задумается, просто помолчит и опять напомнит. И ждет, о чем бы напомнить… Но опять о своем, все о том же.