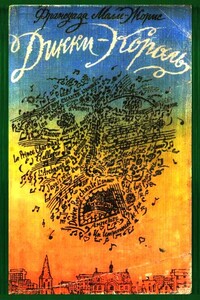Три времени ночи | страница 138
Он осекся под удивленным, чуть ли не испуганным взглядом старого доктора.
— Кончится тем, что я поверю, — медленно молвил старик, — что и вы сами… Нет, какое упрямство!
И Пишар отошел. Шарль вытер со лба пот. Не обращая внимания на любопытство, которое возбуждала его персона, он глядел не отрываясь на Элизабет. В эту минуту Элизабет, такая нежная, изящная, корчилась на полу, в пыли. В тишине было слышно, как тяжело она дышала, в то время как державшие ее иезуиты со смесью безразличия и удовлетворения на лице, уверенные в себе, привыкшие к подобным спектаклям, так будоражившим толпу, исполняли, несколько рисуясь, свою роль палачей-целителей.
Стоны Элизабет разрывали ему душу, и все же Шарль, несмотря на отчаяние, испытывал нечто вроде торжества, как если бы присутствовал при наказании женщины, не отважившейся на любовь.
— Астарот! Отвечай! Я требую ответа! В твоей ли власти тело Элизабет? Вельзевул! Заклинаю тебя именем всемогущего святого Духа, отвечай! В твоей ли власти тело Элизабет? Люцифер! Именем всемогущего святого Духа… Кем бы ты ни был, бес, в чьей власти тело этой женщины, требую, назови свое имя!
Тело Элизабет словно одеревенело, и вдруг она вскочила («взлетела», как рассказывали потом очевидцы) с вытаращенными глазами, с пеной на губах и, выкрикнув хриплым чужим голосом «Шарль Пуаро», рухнула без сознания.
Постепенно толпа рассеялась. Для первого сеанса было достаточно, и д’Аргомба, один из иезуитов, распорядился отнести Элизабет домой. Шатаясь, Пуаро тоже добрался до своего жилища, не обращая внимания на перешептывания жалостливой публики. Значит, правда. Перед всеми она сказала, выкрикнула, что принадлежит ему! В состоянии крайней слабости, в бреду она была способна произнести, прокричать лишь одно имя, имя Шарля. «Наконец-то», говорил себе Шарль в болезненном возбуждении, исключавшем всякое размышление. На вопрос: в чьей власти тело этой женщины? — все в часовне услышали ответ: «Шарля Пуаро». Теперь их нельзя будет разлучить, они как бы стали мужем и женой.
Он еще продолжал грезить, когда в тот же вечер за ним пришла стража.
Состояние одержимости длилось у Элизабет около четырех лет и было, по словам специалистов по изгнанию злых духов, в высшей степени показательным. Освободившись от себя, избавившись от мучительной необходимости сдерживать и судить себя, Элизабет словно обретала покой, вернувшись к безмыслию, отрешенности. Она поддавалась любым влияниям, любым настроениям, которые сталкивались вокруг нее, в ней, Элизабет походила на зеркало, отражающее всякую тень, на скрипку, начинающую звучать, если к ней притронуться. Не скрывались ли в глубине этой нелепой всеядности мрачное удовлетворение, своеобразный реванш? Элизабет и сама не смогла бы это объяснить, казалось, она вообще отказывалась от какого-либо суждения. Оставалась ли прежней Элизабет эта женщина, послушная церкви, послушная малейшим волеизъявлениям обитающего в ней мрачного насмешливого духа? Она совершала чудеса, обычные для медиумов, одержимых бесами: читала на расстоянии закрытые книги, разговаривала на непонятных языках, отгадывала мысли тех, кто ее расспрашивал. Временами отчаяние, как бы пробуждая Элизабет, возвращало ей ясность ума, и тогда у нее возникало чувство, будто она сама захотела, чтобы Бог ее отринул, — это было нестерпимо. Уверенная в эту минуту в Божьем проклятии, она готова была кинуться в колодец, в пруд, и, лишь умножив число сеансов, иезуиты возвращали ее в состояние отрешенности, успокаивали, и Элизабет вновь погружалась в сомнамбулизм, служивший ей убежищем от забот.