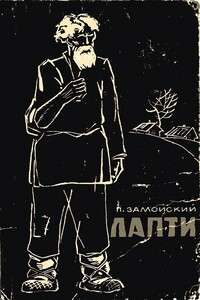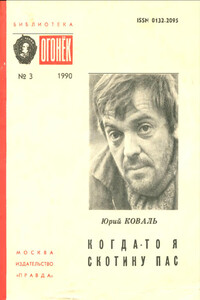Восход | страница 2
Все рассказал я матери, о чем узнал от самого Никиты Федоровича за время наших поездок по селам.
— Ты, мать, корми его почаще, он и поправится, — сказал я.
Уж что-что, а это мать поняла. Открыв печь, она посмотрела туда, а потом подошла к двери.
— Микит Федрыч! — позвала она. — А Микит!
— Что? — нескоро отозвался он.
— Выдь на минутку.
Никита вышел с газетой в руках. Мать посмотрела на него с состраданием, упрекнула:
— Вот все вы над бумагами торчите. Э-эх, писаря! Садитесь-ка. Есть вам пора.
Сначала Никита удивленно посмотрел на меня, затем на мать и улыбнулся. Улыбка на его тощем лице была хорошая, глаза озорно блеснули, будто он разгадал какой-то таинственный подвох.
— Как, мамаша, опять за стол? Да мы только час тому назад кисель кушали.
— То кисель, а то картошка, — не уступила мать. — Гляньте, как поджарилась.
Невзирая на наш отказ, мать открыла печь и выдвинула оттуда черепушку с поджаренной, румяной сверху картошкой. Она водрузила черепушку на стол, словно для обозрения. Верно, картошка была просто загляденье. От нее шел аромат топленого молока и лука.
— Ешьте оба. Все в дороге, да все всухомятку. Небось и молочка не видели…
— Что ты, мать. За кого ты нас принимаешь? Голодны не были. И молоко видели, — запротестовал я.
— И ты ешь, — по давнишней привычке прикрикнула на меня мать. — Ишь стал какой кощей бессмертный. Глядеть на тебя… о!
— Ничего, мать. Зато во мне дух здоровый.
— Какой дух! Ног небось скоро таскать не будешь. Садись, одному ему скучно. Я молока принесу.
И мать, не слушая наших возражений, вышла из избы. Мы переглянулись и расхохотались. Еще бы не смешно — по два раза кряду завтракать. Но мать сказала правду: больше всего нам приходилось пробавляться всухомятку.
— Садись, друг Никита. Все равно не отвертишься. Мать у нас такая… можно прямо сказать — диктаторша.
— Нет, — возразил Никита, — она у вас очень добрая.
— Зато уж чересчур строгая. Если полюбит, последнее отдаст, а нет — так будь хоть поп, все равно отчитает.
Мне показалось, что Никита стесняется много есть. А почему — непонятно. Или после долгого недоедания опасается, или думает, что обидит наше семейство.
— Мать у вас очень щедра, — заметил Никита, — проста, говорю.
— И даже чересчур проста, — подтвердил я. — И щедра так, что во вред себе.
— То есть? — не понял Никита.
Тут я рассказал ему про один диковинный случай с головным платком матери. Как-то отец, что называется «в коем-то веке», купил матери на базаре ситцевый платок. Мать была так рада обновке, что надевала этот платок, только когда шла в церковь или ездила к сестре в соседнее село. В остальное время берегла его в сундуке. Однажды к ней пришла соседка, вдова Марья. Бедность у нее была пострашней нашей. Собралась как-то Марья на свадьбу, племянницу выдавать, нарядилась во что могла, а на голову и нечего повязать. Приходит, просит: «Ариша, дай ты мне свой праздничный платок на разок. Отдам тебе, не попачкаю». — «Возьми», — говорит мать. Надела Марья платок — и что же, стала совсем другой. Взяла осколок зеркала, крутит перед носом, любуется собой и улыбается. И матери моей потешно. Уж очень хороша стала Марья, хоть замуж выдавай. Совсем умилилась моя мать, растрогалось ее сердце. И говорит: «Возьми ты, соседка, этот платок насовсем». — «Как насовсем, Ариша, ведь он у тебя один!» — «А вот и возьми, мне его не жалко. Ты помоложе, авось приглянешься какому ни на есть вдовцу». И отдала. Расщедрилась. А через неделю собралась к сестре, хватилась, а платка и нет. Туда, сюда — нет. Забыла, что отдала. Спрашивает меня: «Петя, не видал моего платка?» — «Нет», — говорю, а сам еле сдерживаюсь от смеха. Попадет за это.