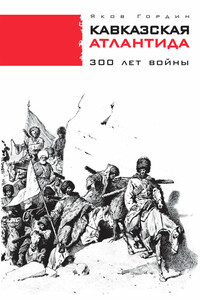Тем, кто на том берегу реки | страница 87
Художник Юрий Анненков, которому случилось рисовать в 1921 году Ленина, приводит в мемуарах свой разговор с вождем революции:
«Я, знаете, в искусстве не силен… – сказал Ленин, – искусство для меня – это… что-то вроде интеллектуальной слепой кишки, и когда его пропагандная роль, необходимая нам, будет сыграна, мы его – дзык, дзык! – вырежем. За ненужностью». И далее: «Вообще к интеллигенции, как вы, наверное, знаете, я большой симпатии не питаю, и наш лозунг “ликвидировать безграмотность” отнюдь не следует толковать как стремление к нарождению интеллигенции. “Ликвидировать безграмотность” следует лишь для того, чтобы каждый крестьянин, каждый рабочий мог самостоятельно, без чужой помощи, читать наши декреты, приказы, воззвания. Цель – вполне практическая. Только и всего»[16].
Разумеется, эту запись разговора, проходившего без свидетелей, нельзя считать абсолютно надежным источником. Но практика власти в последующие десятилетия делает сведения Анненкова весьма правдоподобными.
«Пропагандная роль» искусства протянулась во времени далее, чем предполагал Ленин. Но было сделано все возможное, чтобы культура перестала быть культурой, а превратилась в нечто жалко функциональное.
И дело не в злой воле большевиков, бюрократов, аппаратчиков: сама по себе эта система власти и мировосприятия есть объективация растерянного, расколотого сознания, неспособного принять и осмыслить мир в его разнообразии, а цепляющегося за случайные – в историческом масштабе – опоры, жаждущего мгновенных выгод.
Поведение и Прокофьева и Лернера в «деле Бродского» объединялось и детерминировалось их принадлежностью к стихии этого типа сознания, равно как и психологическим механизмом их поступков, выросшим из идеологии ЧК – ГПУ – НКВД. (Прокофьев имел отношение к ЧК в молодости.)
Когда интеллигентные люди искренне поражались, как одаренный поэт Прокофьев, вне зависимости от его политической позиции, мог бросить на растерзание КГБ другого поэта, пускай ему чуждого, но – поэта, то в них говорило полнейшее непонимание сути происходящего. Прокофьев не мог признать Бродского поэтом – в таком случае он перечеркивал и разрушал собственный мир. Его представления о поэзии, основанные на духовной статике, направленные сверху вниз (в лучшем случае горизонтально), не могли сосуществовать с поэзией Бродского. Дело было не в талантливости или неталантливости Прокофьева, а в качестве того духовного пласта, из которого он произошел и который был несовместим с тем типом культуры, из которого вырос Бродский. Речь не только о героях и лириках Серебряного века. Пушкин Прокофьева мало напоминал Пушкина, воспринятого Бродским.