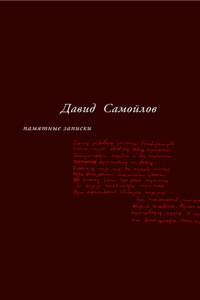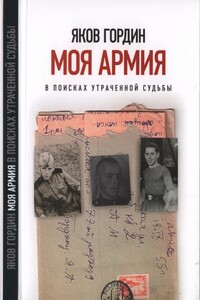Тем, кто на том берегу реки | страница 149
«Переводы, собранные в этой книге, аукаются с его оригинальными стихотворениями… Внимательный читатель, безусловно, заметит связь переводов Кавафиса с “Римским циклом”, оценит изящество “Бабочки”, залетевшей в нашу поэзию не без помощи английских “метафизиков”, обрадуется, услышав в “Колыбельной Трескового мыса” отголоски Лоуэлла, изумится глубине и интенсивности диалога между Бродским и Венцлова. Не будем продолжать этот перечень»[64].
Конечно, этот перечень может быть обширнее. Можно вспомнить о родстве любовной лирики Джона Донна и любовной лирики Бродского шестидесятых годов. И о многом другом. Бродский сам свидетельствовал, характеризуя свои стихи о Мексике, что значительные пласты его поэзии были уникальным сплавом – русские стихи, вобравшие в себя иноязычную поэтическую традицию:
«Я пытался использовать традиционные испанские метры. Первая часть, о Максимилиане, начинается как мадригал. Вторая, “1867”, где о Хуаресе, – сделана в размере чоколо, то есть аргентинского танго. “Мерида”, третья часть, написана размером, который в пятнадцатом веке использовал величайший испанский поэт, я думаю, всех времен – Хорхе Манрике. Это имитация его элегии на смерть отца… Если можно так выразиться, это дань культуре, о которой идет речь»[65].
Дань культуре. Переводы – в том числе с испанского – были переходной формой, системой соединительных сосудов, способом, стимулирующим взимание и приношение этой дани…
Но дело не только в многозначительных перекличках. И даже не в огромном значении для формирования поэтического мира Бродского этого упорного освоения мирового поэтического опыта, чему в русской поэзии есть только один аналог – освоение мирового поэтического опыта Пушкиным.
Главное в другом. Поэты такой яростно интенсивной индивидуальности не могут создавать переводы в точном смысле слова.
Я уже упоминал байроновские «Стансы к Августе» в русском переложении Пастернака.
Это, конечно же, не Байрон 1816 года. Это гениальные стихи зрелого Пастернака.
Так и мир переводов Бродского – в главных своих образцах – не просто плотно сопределен миру его поэзии, но является его органичной частью.