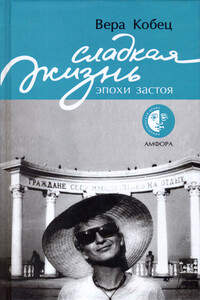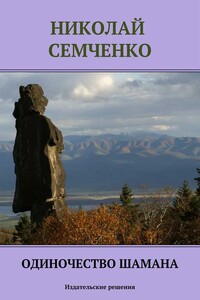Прощание | страница 29
…Простите, что я здесь стою такой старый и пьяненький, давно не пишущий пьес, переживший — страшно подумать! — столько талантливых, сильных и молодых. Они куда лучше справлялись бы с получением премий, и с другими делами тоже, наверно, справлялись бы лучше, в то время как я уже… хотя раньше я тоже, я тоже, можно сказать, о-го-го, о-го-го…
«О-го-го» по каким-то причинам (физиология? психология?) прозвучало как «и-го-го», жеребячье, веселое. И слышать это было приятно, хотя и кольнуло разнообразными сожалениями. Приятно, потому что седой и облезлый волчок никогда не был волком, лисой или еще каким-нибудь хищником. Был олененком, чутко пасущимся на лугу у самого края леса, и еще осликом, который то долго несет навьюченную поклажу, то вдруг упирается, и уже никакой хлыст над ним не властен.
…Простите за то, что, случалось, я писал плохо, простите уж заодно и за то, что, случалось, писал хорошо. Простите, еще раз простите…
И ни разу «благодарю». То самое слово «благодарю», что прежде неудержимо рвалось с его губ в самых, казалось, неподходящих обстоятельствах, а сейчас было бы вроде весьма уместно, но вот, поди ж ты, выяснилось, что нет. Время «благодарю» прошло.
И-го-го! Топот конских копыт давно замер в прошлом. Смутно виднеется вдалеке вихрем пронесшийся табун. Он, правда, чувствовал себя в нем Коньком-горбунком, но прекрасные сильные кони и нежные, серые в яблоках кобылки, весело вея хвостами, на все голоса уверяли: ты наш, ты такой же, как мы, ты красив. И он, смущенный и радостный, скакал вместе со всеми, а потом делал рывок — и вновь оставался один, уходил в синие сумерки и тихо падающий снег, но даже туда до него долетали всплески аплодисментов. Услышав их, он испуганно затыкал уши: в этом звуке чудилось что-то издевательское, а то и угрожающее. И он боялся, что его — горбунка — схватят сейчас и начнут больно бить. Причем бить будут не только бронзовошкурые носороги, но и вот эти прекрасные породистые скакуны. Бить за то, что не хочет выкрикивать «дайте», а все бормочет «благодарю» и еще тихо шепчет «простите, простите, простите».
Умирал он один. «Беспредельная робость в быту»? Писатель, навестивший его в последней больнице, оставил душераздирающее описание засохшей булки и недопитого стакана кефира на тумбочке.
Недопитый кефир почему-то приводит на ум фронтовые сто грамм. Их нет сил выпить. Бой закончен.
И уже отстраняясь от тени классика, можно добавить только одно: «Не размахивайте руками. Не важно, состоялась драка или нет. Не размахивайте». Финита.