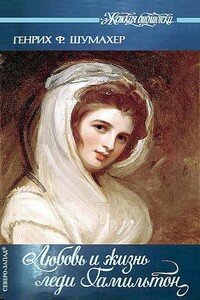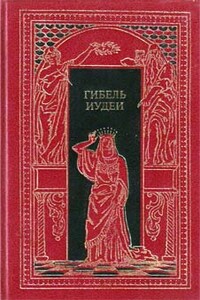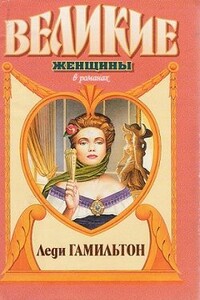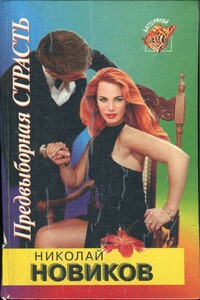Последняя любовь лорда Нельсона | страница 39
— Ваше величество велели мне сказать, что я думаю. Если мои слова не нравятся… Я — супруга английского посла. Да будет ваше величество так милостиво, что позволит мне удалиться.
Мария-Каролина, стиснув зубы, резко отвернулась:
— Как вам будет угодно, миледи!
Отвесив глубокий поклон, Эмма пошла к выходу. Но у двери королева догнала ее и удержала за платье:
— Ты и вправду уходишь? Разве ты не видишь, что я больна, что все мои силы исчерпаны?
— Ваше величество…
— Ах, оставь ты свои «величества»! Когда мы с глазу на глаз… Ну да, я оскорбила тебя… А все моя вспыльчивость! Я прошу у тебя прощения. Ну, довольна ты теперь?
Обняв Эмму, она повела ее снова к столу, усадила на диван, гладила ее щеки, улыбалась ей, целовала ее. Словно большое дитя, она играла с Эммой, как с куклой. Снова взяв в руки ножичек, она опять принялась чистить для Эммы апельсин и смеясь стала класть ей в рот сладкие дольки.
Эмма не сопротивлялась. Улыбалась шуткам, отзывалась на маленькие нежности. Но в ней зрела какая-то горечь. Она не видела пути для выполнения своей задачи. Королева все время ускользала от нее. Упрямая и настойчивая в политике, в личном общении она была нервна, неровна, бросалась из одной крайности в другую. Как будто в этой забавной игре находила отдохновение, как будто ее воля черпала в этом новые силы.
Она была, как Мария-Антуанетта, — легкомысленна и склонна к преувеличениям. Никогда не опасалась того, что ее поступки могут быть ложно истолкованы. Печальный опыт не сделал ее осторожнее. Она, казалось, уже снова забыла о памфлете, который только два месяца назад был опубликован против нее в Париже офранцузившимся миланцем графом Горани, хоть этот памфлет содержал все самое позорящее, что только можно было сказать о монархине, женщине, матери. Там, например, говорилось, что из восемнадцати детей у нее умерло одиннадцать, так как у нее был план намеренно, плохим обращением с ними, убить своих сыновей, дабы помочь Австрии завладеть Неаполем. И это при том, что она была нежнейшей матерью, а при отсутствии наследника к правлению пришли бы другие ветви дома Бурбонов, но никак не лотарингские Габсбурги. Ее дружбу с Эммой тоже облили грязью, намекая на позорные отношения, называя часы невинных бесед милетскими ночами. Как будто было противоестественным для одинокой, угнетенной заботами монархини искать утешения и возможности высказаться у своей подруги и единомышленницы.
Но народ верил этой клевете. Как парижская чернь верила слухам о Марии-Антуанетте и Луизе Ламбаль. Если бы к власти пришли эти лаццарони, высшее наслаждение которых — мучить невинных животных, они бы сделали с Эммой то же, что парижане с Ламбаль. Они бы с песнями понесли по улицам на пике голову Эммы…