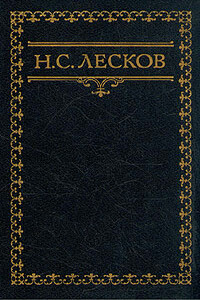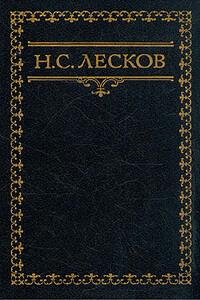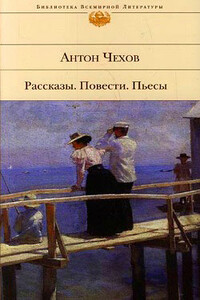Чернозёмные поля | страница 73
Суровцов скакал через поля, торопясь добраться домой, пока народ ещё не положился спать: он не оставил старосте приказа на завтра и боялся упустить утренние работы. Но как ни погружена была его голова в хозяйственные соображения, он не мог отделаться от беспричинного чувства радости, волною ходившего в его крови всё время, пока он ехал в темноте летнего вечера к своему дому. Вся эта милая история с Надею, её наивная уверенность в непременном сочувствии Суровцова её планам, приводили Суровцова в самое счастливое расположение духа. Словно в дружном сообществе с этим чистым и пламенным ребёнком он сам возвращался в безмятежную пору детства. «Лиза, будем играть с тобою вместе в добро!» — ласково говаривал он когда-то своей маленькой сестре, переполняясь приливами безотчётного восторга и безотчётной дружбы.
Суровцов не забывал до сих пор этих мгновений детского счастья. Когда ему, уже познавшему науку и жизнь, делалось отчего-нибудь хорошо на душе, это «хорошо» оттого и было сладко сердцу, что будило в нём неизгладимые впечатления первых детских восторгов ещё нетронутого и неохлаждённого жизнью детского сердца. «Надя, мы с тобою будем играть вместе в добро!» — твердил он в невольной переделке своё любимое воспоминание и неудержимо улыбался сам с собою, один в пустом поле.
Пасека
Без четверти в пять часов утра Кречет внёс Суровцова во двор коптевской усадьбы. Господский дом ещё спал. Ставни в нескольких комнатах были заперты; неодетая горничная, в одной юбке, бежала из кухни к девичьему крыльцу с медным кофейником в руке. Девчонка в белой рубахе сидела на корточках позади крыльца и усердно чистила песком медный таз. Садовник в фартуке неспешно обметал метлою вокруг дома. А на конюшне, у амбара, на скотном дворе уже всё кипело утреннею деятельностью. Штук сорок больших и длинных коров разной шерсти вываливали на улицу из ворот скотного двора с протяжным мычанием и криками мальчишки-подпаска, пастуха и скотника; конюхи выводили к колодцу из просторной конюшни длиннохвостых, крутошеих заводских лошадей под парусинными попонами, весело ржавших и взвивавшихся на дыбы при виде солнечного утра. Длинные росистые тени ещё лежали на траве обширного и тихого двора, почти со всех сторон охваченного «службами». Старый сад навис над старыми решётками своею густою тёмно-зелёною сенью, из него несло утреннею сыростью.
Суровцов никого не нашёл ни в передней, ни в зале, ни в гостиной, и с балкона её спустился походить по дорожкам сада, ожидая выхода Нади. Только что он вступил в густую крытую аллею из жёлтых акаций, сквозь которые не проникало не только солнце, но даже и дождь, как на большой дорожке, ведущей к пруду, в нескольких шагах от него, раздался знакомый ему смех и шум шагов. Надя бежала с купанья, в башмачках на босу ногу, в белом капоте, завернувшись, как татарка, совсем с головою в белую простыню, обрамлявшую очень эффектно её щёчки, разрумяненные здоровьем, молодостью и свежестью утреннего купанья. Выбивавшиеся из-под белой простыни нерасчёсанные тёмные пряди волос и большие чёрные глаза, искрившиеся детским удовольствием, придавали в эту минуту выражению полного и цветущего личика Нади особенное очарование. Рядом с Надей бежала босоногая девчонка Маришка с медным тазом, бельём и разными походными принадлежностями туалета, мокрая с ног до головы. Она с самой задушевною весёлостью, махая свободной ручонкой, на бегу рассказывала Наде историю своего внезапного падения в воду, и обе на весь сад заливались откровенным хохотом.