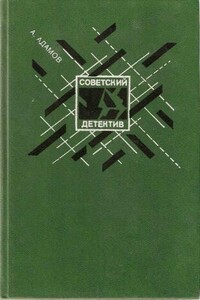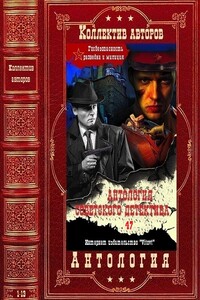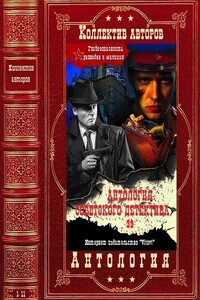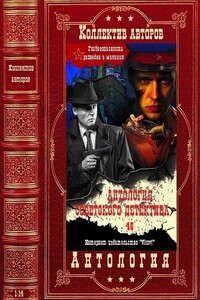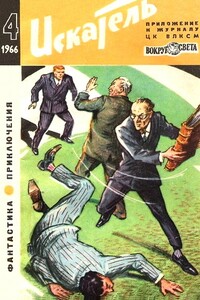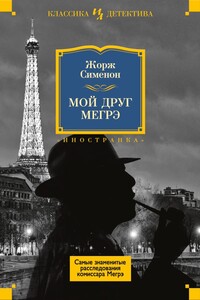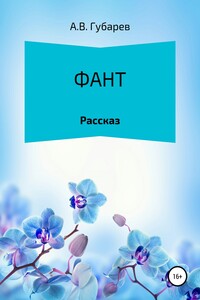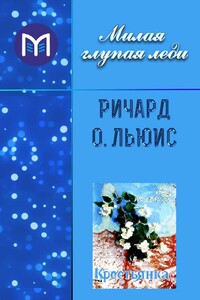Черная моль | страница 20
Но тут есть и еще один аргумент. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему врачам запрещено даже в случае смертельной, жестокой болезни прекратить мучение умирающего? Ведь это, кажется, самое гуманное, что может в данных условиях предпринять врач. Но нет, это запрещено ему не только законом, но и медицинской этикой. Почему же? Потому что – а вдруг? Вдруг что-то случится, некое чудо, и человек поправится? Медицина понимает, что пока она не всесильна и не всезнающа, что еще многое ею не познанное таится в удивительном создании природы – человеке. А кроме того, вдруг врач ошибется и примет тяжкую болезнь за неизлечимую, кризисное состояние за предсмертное? И вот, во имя высшей гуманности, медицина отказывается от сиюминутной, благородно сознавая и признавая, что она пока не всесильна.
Здесь есть некая нравственная и, я бы даже сказал, юридическая аналогия со смертной казнью. И тут присутствует это – «а вдруг?». Вдруг что-то случится, сработает какой-то неведомый нам нравственный регулятор из прошлого или настоящего в жизни этого человека, и он, казалось бы закоренелый преступник, исправится. Возможно такое? Случалось? Да, случалось. Порой совершенно неожиданно для всех. Я исхожу здесь не только из своего собственного опыта, даже главным образом не из своего. И второе соображение, тоже по аналогии с медициной. Вдруг мы ошибемся? И примем тяжкую нравственную болезнь за неизлечимую? Больше того, у юриста здесь положение даже труднее, чем у врача. Ведь возможна и вообще ошибка, так называемая судебная, и человек вообще ничем «не болен», человек невиновен, но невероятное стечение обстоятельств помешало это установить в тот момент. Бывают судебные ошибки? Бывают, конечно.
Так вот, во имя величайшего нравственного примера и сознавая, что тоже пока не всесильна, не всезнающа, юстиция наша, располагая массой других средств воздействия, может, мне кажется, отказаться от крайнего, самого крайнего.
Были и другие социальные и психологические факторы, которые заставляли серьезно задуматься над причинами преступности и методами борьбы с нею.
В связи с этим мне хотелось бы вернуться к той группе парней, напавших на владельца «Запорожца», о которой я уже упоминал. Их было одиннадцать. У семерых оказались так называемые «неблагополучные» семьи. Что это означает?
На моих глазах со временем менялось содержание этого понятия. В первые годы после войны это были прежде всего семьи, где не было отца, погибшего на фронте. Вот так было у Мити Неверова, о судьбе которого я уже рассказывал.