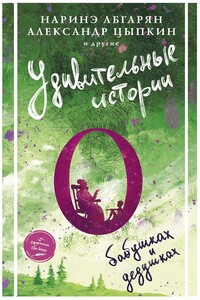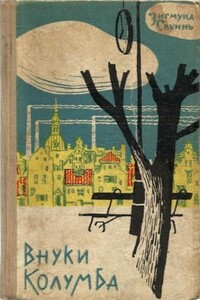Повести писателей Латвии | страница 40
— А я вообще умею любить?
Таких вопросов мне до сих пор никто не задавал, и я опешил, как если бы поблизости рванула фугаска или дальнобойный снаряд. Что тут можно ответить, я не знал и только протянул:
— Да так…
— Я так и знала, что не умею, поэтому боялась заводить отношения с чужими мужчинами. А ты научишь меня любить? Ты же добрый…
Я растерялся еще больше — до того, что стал даже заикаться.
— А разве я… для тебя… не чужой мужчина?
Дзидра изумилась:
— Да ты что, не помнишь меня?
Но, как я ни напрягал свой котелок, в конце концов пришлось признаться:
— Нет. Прости, но не помню.
Дзидра двинула меня кулачком под вздох так, что перехватило дыхание.
— Ну и память у тебя! А кто принес мне туфли, первые в моей жизни, да еще поверил в долг? Самые первые туфли, понимаешь? Я ведь за них еще должна тебе. До того у меня были только постолы, да еще мужские танки, которые приходилось надевать на четыре пары шерстяных носков. Ты был единственным, кто пришел в наш домишко и ничего не потребовал, а, наоборот, дал. Мать мне и перед смертью напоминала, чтобы я не забыла рассчитаться с тобой, потому что ты — единственный, кому она осталась должна. За те туфельки требуй от меня чего захочешь, вот за шелк я расплачиваться не стану: его, когда мать умерла, прибрала тетка. С нее и требуй.
— И потребовал бы, только я ее не знаю.
— Ничего не потерял. Сущая ведьма.
— Постой-ка, а как это она вдруг забрала шелк? За красивые глаза, что ли?
— Нет. Она его получила вместе со мной и прочей рухлядью.
— Ну, ты-то далеко не рухлядь. Значит, она не только брата, но и давала. Миску супа, ломоть хлеба…
— Не задаром. Я нянчила ее детей, полола огород, доила корову. Она меня драла и как только не обзывала, но я не плакала, ни слезинки моей она так и не увидела, пока однажды дядя не вырвал вожжи у нее из рук и чуть было не отхлестал ее саму. С тех пор она меня больше не била. Дядю я слушалась с полуслова, а ее — как когда.
— Глупышка. Я незнаком с твоей теткой, но ее в свое время наверняка так лупцевали, что она водички просила. Вот она и воспитывала тебя так, как ее воспитывали.
— Нет. Ей хотелось моих слез. Я однажды подслушала, как она жаловалась дяде: «Все дети как дети, закатишь оплеуху — и глаза на мокром месте, а Дзидру хоть колом бей — даже не пикнет и глядит бесстыже и упрямо. За что мне такой крест?» Не расслышала только, что дядя ей ответил.
— Натерла бы глаза луком и плакала без передышки. Никто бы тебя больше не драл.