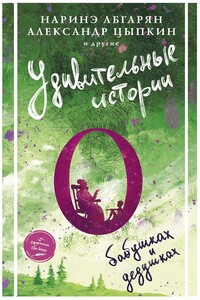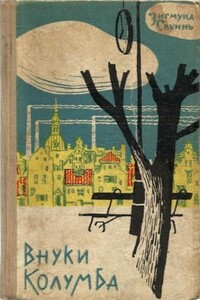Повести писателей Латвии | страница 24
Я приложил палец к губам:
— Тсс! Не трону! Ничего не возьму! Тебе на платье, матери на юбку. На! Спрячь! Как следует спрячь! Никому не показывай. Ни единой душе… Только матери. Скажи, я приду потом, потом!
И я выскочил в дверь, оставив на столе то, что хотел подарить Норе на этот раз: рулончик, то есть отрез, немецкого лилового эрзац-шелка. Ничего особенного, последнее дерьмо, растворялось и в ацетоне, и в бензине, зато выглядело — первый сорт. Мне особенно нравился цвет: не то фиолетовый, не то сиреневый, с блеском. Нора нет-нет, да и упрекала меня в том, что я слишком уж часто заглядываю в рюмку; хотел ведь пожелать ей: пусть теперь носит на здоровье да не забывает форштадтскую песенку:
Только нет ведь Норы! Эх, сейчас бы стаканчик обжигающего первача — за то, чтобы земля была ей пухом! Теперь этот шелк сносит чужая женщина — мать этой девочки из развалюхи. И пускай! Будет чем — заплатит, нет — господь на том свете воздаст. Подумаешь, большое дело, обычное немецкое дрянцо. Солидному клиенту такое продать было бы просто стыдно, такое можно разве что подарить знакомой или загнать совершенно чужому человеку.
А основательно глотнуть было бы совсем не вредно, потому что во всем происшедшем без поллитра никак не разобраться. Выпить!
— Я бы тоже выпила воды, — прозвучал рядом голос Дзидры, и я вздрогнул.
Неужели я до того углубился в свои воспоминания, что даже стал разговаривать с умным человеком — в смысле с самим собой? Не к добру это.
Я положил руку Дзидре на плечо, попробовал улыбнуться и пробормотал:
— Извини!
— За что?
Она спросила очень спокойно, без малейшей нотки удивления в голосе.
— Да за все. Мы идем вместе, а я тебя не развлекаю, знай волоку свои мысли, как прохудившийся мешок, стал даже вслух разговаривать.
— А что тут извиняться? Твое молчание мне по душе, так что можешь и дальше не говорить. Помолчим! Молча мы так хорошо понимаем друг друга.
То ли Дзидра была хорошей актрисой, а может быть, и на самом деле говорила серьезно, но в ее голосе я не уловил ни малейшего признака насмешки. И привлек ее к себе.
— Как госпожа прикажет!
Отпустил, и мы неторопливо поплелись дальше. Дзидра по-прежнему держалась рядом.
В Дижкаулях нас встретили градом двусмысленных острот, но были они, в общем, на уровне начальной школы и мне даже кожу не оцарапали. Да и на лице Дзидры была написана такая скука, что острякам быстро надоело стараться, и они оставили нас в покое.