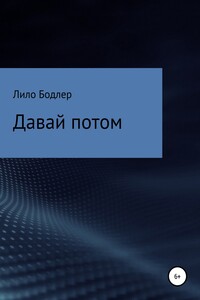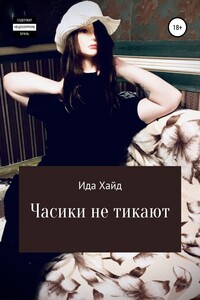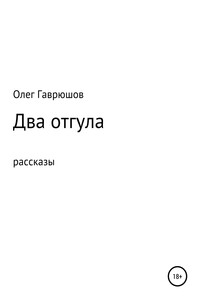Наш Современник, 2005 № 11 | страница 53
Был я на вечере Владимира Лазарева в Ленинской библиотеке, куда съехались многие хоры из разных городов страны для исполнения песен на его стихи. Заполнен весь зал, а его всё нет. Знавшие о его привычке постоянно, при всех случаях, опаздывать на час-полтора, терпеливо поглядывали из окна на дорогу, пока, наконец, увидев знакомую фигуру, бредущую не спеша, вперевалку, кто-то не крикнул: «Идет!».
Часа три длился концерт, и, признаться, я, до того почти не слышавший этих песен, заслушался их мелодиями, лирическим настроем на русское, и не только в широко известных «Шум берез». И вскоре после этого неожиданно для знакомых и даже родственников Лазарев с женой Ольгой Эдгаровной уехал в Америку.
Видимо, в этом и есть неустранимая еврейская черта: в любое время всякий из них может уехать. Отъезд Лазарева не то что побег туда невежд, вроде В. Аксенова, десятки лет «обучавшего» в Америке студентов, вдалбливавшего им мысли «об отсталой» русской литературе в сравнении с западной (о чем он сам писал в «Литературной газете», называя «Войну и мир» Толстого подражанием… одноименному трактату Прудона). Хорошо, что укатил в Америку бывший студент моего литинститутского семинара Крашенинников, сочинявший здесь напоследок опусы об извращенцах. Кто знает, не пригодились ли они Клинтону в его истории с Моникой?
Но о Лазареве я думаю даже так: была бы сильной Россия, и он вряд ли бы уехал, был бы ее «певцом» — природы, культуры. Он любил русскую культуру, да и сейчас, не сомневаюсь в этом, любит. Но вот рухнуло великое государство, и на помойке он уже не мог быть тем, чем был, чем хотел быть. Но, возможно, это мои домыслы. Возвратившись из первой поездки в Америку, он при встрече со мной, говоря о своих впечатлениях, назвал имя Конквеста, автора «Великого террора», который вслед за Солженицыным своим чудовищным преувеличением «жертв сталинского тоталитаризма» стремится выставить Россию в глазах мира сплошным Гулагом. Я сказал об этом Владимиру Яковлевичу, на что он спокойно ответил: «Он мне показался понимающим».
Мне казалось, что он несколько ревновал к прошлому журнала «Молодая гвардия». Все вспоминают 60-е годы, Никонова, но всё это прошлое, а он делает журнал будущего, в котором будут выступать великие мастера прозы, «вот увидишь». Приняв из рук стареющего Анатолия Иванова «Молодую гвардию», Кротов вывел из редколлегии ее старых членов, известных писателей. К моему удивлению, заметно переживал свою «опалу» Петр Проскурин. Когда мы осенью 1995 года в числе других (Белов, Ганичев, Шафаревич) были с ним в Оренбурге на так называемых «Днях духовности», то он не раз возвращался в разговоре со мной всё к тому же, возмущаясь такой бесцеремонностью. «Петр Лукич, вы известный писатель, зачем вам нужна эта редколлегия?» — говорил я ему. «Нет, ты скажи, кто такой Кротов?» — вопрошал он. Но Кротов, наоборот, считал, — кто такие они. Грядёт новая литература с мастерами мирового уровня, журнал готовит ее.