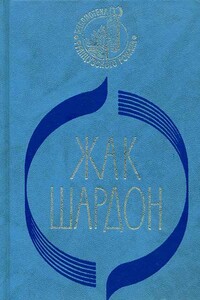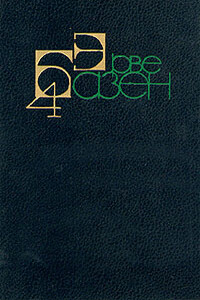Кого я смею любить. Ради сына | страница 36
Слабы, потому что, в отличие от резонов Натали, не были прочно основаны на принципах, освящавших ее ревность; потому что настойчивость врага, придававшая, казалось, большое значение моей персоне и говорившая о том, что, как только опадут мои шипы, Залука превратится в чудесный оазис, не оставляла равнодушным мое тщеславие; потому что в самом этом упорстве было нечто большее, нежели забота о согласии, — осознанный выбор, интерес, подстрекаемый моей нелюбезностью, желание покорить меня, достаточно возбужденное моей враждебностью, чтобы взволновать и встревожить его в равной мере. Слабы, наконец, потому, что мама теперь была на ногах и постоянно находилась между ним и мною со своими гримасками, ужимками, умоляющими взглядами, неодобрительным молчанием и стойким намерением сточить мою злобу пилочкой для ногтей.
Я от этого только больше злилась, но как-то неискренне, так что была сама себе противна. Съежившись, сжавшись в комок, я избегала обоих, скрываясь в кухне под малейшим предлогом. Я утыкалась в жилетку Нат и ныла ей каждый раз про одно и то же. Закусив верхнюю губу, она выслушивала меня, энергичнее перемешивая соус или выковыривая ножом чернушки на картошке. С этой стороны я могла быть спокойна: Натали никогда не простит тому, кого в разговоре со мной называла «этим», ни ста тысяч франков, которыми он ее отблагодарил, ни счетов, которые она отныне должна была вести в блокноте и раз в неделю представлять ему на просмотр, ни уничтожения избытка диванных подушек, сделанных ее руками за долгие годы и говорящих о ее стародавней любви к вышиванию, а главное — разговоров в поселке, где единственное ценимое ею мнение — то, что берет начало у кропильниц и выходит со слюной святых женщин, — совершенно иссякло, уступив место ядовитой услужливости лавочников. Но Нат недолго меня поддерживала, быстро смущаясь и разрываясь между своими обидами и опасениями, которые, возможно, сливались с легкими угрызениями совести от нападок на ближнего своего и потакания непокорной дочери. Она потрясала своей кичкой, говорила: «Брось! Не терзай себя. Раз уж ничего не поделаешь…» А иногда оставляла меня в кухне и шла в пристройку нещадно скрести щеткой простыни, киснувшие в чане для стирки (что, впрочем, было немым протестом, так как она противилась тому, чтобы ей подарили стиральную машину).
Тогда я углублялась в рощу, где еще шелестели опавшие листья; спускалась до самой Эрдры, уже илистой и вздутой. Если шел дождь, я запиралась в своей комнате, уткнувшись носом в вечное вязание, и ждала освобождающего шума мотора, который знаменовал собой отъезд отчима и позволял мне спуститься на цыпочках, украдкой скользнуть к маме, потягиваясь, как кошка, наконец-то вылезшая из-под кровати.