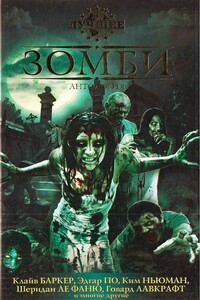Проклятая игра | страница 17
Четвертый год принес новые страхи. Ему исполнилось двадцать девять, не за горами тридцать, а он очень четко помнил, что несколько лет назад считал тридцатилетних стариками. Было больно осознавать это, и давняя клаустрофобия (боязнь, что тебя поймает в ловушку не тюрьма, а сама жизнь) вернулась и усилилась. С нею вместе появилась безрассудная слепая храбрость. В тот год он обзавелся двумя татуировками: алая и синяя молнии на левом плече и «США» на правом предплечье. Прямо перед Рождеством Шармейн написала ему, что развод будет наилучшим выходом, но он не хотел думать об этом. Зачем? Безразличие — лучшая защита. Когда ты признаешь поражение, жизнь становится мягче пуховой перины. В свете этой мудрости пятый год прошел безмятежно. Марти мог достать наркотики; он пользовался влиянием как опытный зек; у него было что угодно, черт возьми, кроме свободы, а ее он мог подождать.
Потом вдруг появился Той. Теперь, как ни пытался Марти заставить себя забыть имя этого человека, его мысли все время возвращались к тому получасовому разговору. Он вспоминал каждую мелкую деталь, словно искал мельчайшие крупицы пророчества. Бесплодное занятие, конечно, но он не мог остановить процесс, который понемногу стал утешать его. Марти никому ничего не сказал, даже Фиверу. Это его секрет, кабинет, Той, поражение Сомервейла.
На второе воскресенье после встречи с Тоем Шармейн пришла к нему на свидание. Встреча заполнялась болтовней, как телефонный разговор через океан, когда время тратится на секундные задержки между вопросом и ответом. Отнюдь не гул чужих разговоров в комнате для свиданий осложнял ситуацию — она сама по себе была мрачной. Теперь от этого факта не уйти. Прошлые попытки поправить дело давно провалились. После обмена прохладными репликами о здоровье родственников и друзей суть разговора свелась к обсуждению подробностей развода.
В первых письмах из тюрьмы он писал ей: «Ты прекрасна, Шармейн. Я думаю о тебе каждую ночь, я постоянно мечтаю о тебе».
Но затем ее черты стали терять ясность, а грезы о ее лице и теле прекратились. В письмах он еще продолжал притворяться, но его любовные сентенции звучали фальшиво, и он перестал упоминать о таких вещах. Это ребячество — писать, будто он вспоминает ее лицо. Что Шармейн при этом должна вообразить — Марти, потеющего в темноте и играющего с собой, как двенадцатилетний? Он не хотел, чтобы она думала так.
Не исключено, что в этом и заключалась его ошибка Возможно, разрушение их брака началось именно тогда, когда он почувствовал себя смешным и перестал писать любовные письма. Но разве она не изменилась? Даже сейчас в ее глазах сквозило неприкрытое подозрение.