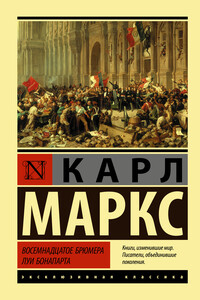Русская философия смерти | страница 3
Наши намерения намного скромнее: рассмотреть некоторые фабулы русской интуиции смерти в связи с культурфилософскими пристрастиями XVIII–XX вв. Развертывание неизученной истории русского Танатоса впору большой монографии; мы ограничимся существенными эпизодами.
II
Человек XVIII века с особенной остротой переживал трагическую необратимость исторического времени. Эпоха Петра Великого принесла катастрофическое убыстрение темпов жизни. Время вновь раскрылось в эсхатологической перспективе: кончина мира была не за горами, о чем обывателю было возвещено явлением царя-Антихриста. Напряжение, с которым становящееся сознание светского мыслителя XVIII в. переживает заброшенность одинокого и беспомощного человека в бытии, сравнимо разве что с ужасом героев раннеисторических описаний>5, впервые оказавшихся лицом к лицу с историей. Человеку истории предшествовал человек мифа. Последний пребывает в надежном топосе вечно обновляющегося бессмертного Космоса; первый на обломках мифологического уюта озирает внезапно распахнувшийся перед ним мир торжествующего зла или обнаруживает себя в неведомо куда устремленных волнах времени. Смертный в смертном мире, человек истории есть дитя страха смерти. Идеи метемпсихоза и палингенеза не раз окажут ему компенсаторные услуги, благодаря которым ужас кончины снимается в образах забытийной вечности. Но чем более глубокой становилась историческая ретроспектива уходящих во тьму людей, городов и народов, тем отчетливее на ее фоне прояснялся вопрос о личном достоинстве перед смертью.
Трактат А. Н. Радищева «О человеке, о его смертности и бессмертии» (1792–1796) своим рождением обязан одиночеству опального автора. В ситуации XVIII в., отождествившего всякую частность (отделенность от целого, в том числе и социальную изоляцию) со смертностью, человек одинокий представлял противное «естественному порядку вещей» явление. Повитая интонациями стоического предстояния судьбе, книга ссыльного мыслителя демонстрирует нам специальную онтологию смерти.
Сознание XVIII в. унаследовало от предшествующих эпох эмблему и символ – принципы мировидения; оно с почтительным любопытством разглядывало историю как поучительный и преужасный «феатр», а Натуру – как Книгу Жизни. Эстетика естества и эстетика истории смыкались в зрелище судьбы частного человека и гражданина. Финальность отдельной судьбы оказывалась для ее «фабулы» моментом промыслительного «сюжетного» завершения (фабулу, по аналогии с литературным текстом, здесь надо понять как набор фактов, а сюжет – как принцип их организации в целостное единство). Обостренное внимание людей XVIII в. к героике биографического финала отчетливо выразилось в последнем поступке Радищева: философ заимствует драматургию своей жизни и патетический жест добровольного ухода из трагедии не раз помянутого в трактате Дж. Аддисона «Катон Утический» (1713; наблюдение Ю. М. Лотмана).