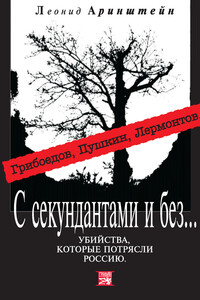Петух в аквариуме — 2, или Как я провел XX век | страница 70
– Ну, ничего, – добавила она, – мама оставила почти всё, что они наготовили. Встретим вдвоем. Д-дома.
Вдвоем… Дома… Ларька отлично понимал, что из этого получится.
Так и получилось.
Оглядываясь назад, можно сказать, что Катинька оказала немалое влияние на судьбу Ларьки. Нет, совсем не в том плане, который, казалось бы, напрашивался после их новогодней ночи. Они, правда, еще долгое время продолжали «делать любовь» – странное словосочетание, которым французы почему-то обозначают сексуальную связь. Но именно любви между ними не было. То ли не успела она вызреть за те девять дней, что отделяли Ларькин приезд от Нового года, и, как всякое до времени прерванное цветение, зачахла, не распустившись. То ли в Ларькином генетическом коде было заложено тяготение к иному типу женщин. Кто разберется в этих психобиологических тонкостях! Только не любил он Катю, смутно понимал это все время, а уж как ясно понял весной! Когда встретил… Но об этом потом. Потом.
А Катя? Она чувствовала Ларькино отношение. Страдала. Мужское сердце любит трудно, а сердце женское шутя… Верно. Только это когда любит, а не когда «делает любовь». Тогда труднее сердцу женскому. И Катинька, склонная во всех житейских неудачах обвинять только себя, последовательно и упорно вгоняла себя в комплекс неполноценности. И вогнала бы… Но все кончилось благополучно. Читатель, вероятно, уже заметил эту особенность нашего повествования: в нем, как и в жизни, все кончается благополучно. Иногда (как и в жизни) с опозданием, но в конце концов благополучно… Впрочем, об этом опять-таки потом.
А влияние, которое Катинька оказала на Ларькину судьбу, имело, если можно так выразиться, духовные истоки. Она была незаурядная девушка. Она, скажем, не просто много читала или много знала, но обладала еще той высокой нравственной и эстетической культурой, которая позволяет тонко и доброжелательно понимать людей, природу, книги, музыку, живопись – видеть им цену и не судить их слишком строго.
Эта культура была растворена во всем их доме – в скромном, но благородном убранстве старой петербургской квартиры, в подлинности висевших на стене гравюр, в добротности находившейся в комнате мебели, в изысканном подборе книг, в видневшейся сквозь буфетное стекло веджвудской посуде. Всё это, вместе взятое, как бы провозглашало непререкаемую недопустимость фальши, халтуры, подделки, показухи – к чему бы это ни относилось: к быту, к искусству, к человеческим отношениям, к труду краснодеревщика, литейщика, ювелира или историка.