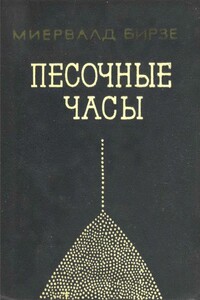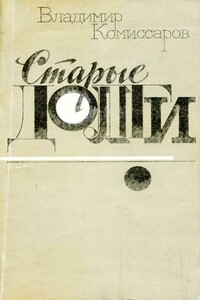Красная роса | страница 42
Минуту-другую стоял Андрей Гаврилович, опасаясь пошевелиться, присесть. Прислушался. Ни единого звука, ни единого признака жизни, похоже, даже мыши тут не водились, пауки не сновали по стенам, ничего здесь не было, кроме склизкой плесени.
Вскоре все-таки сдвинулся с места. Наткнулся на что-то острое — это проржавевшие обручи от бочек попали под ноги. Он не ступал, а плыл по чему-то липкому и отвратительному, уперся ладонью в стену и с ужасом отдернул руку — стена была холодная, как смерть, липкая и промозглая. И только теперь почувствовал, что дышит не воздухом, а гнилью, тленом. Он нервно зашарил руками, искал дверь и очень быстро нащупал ее, с силой застучал кулаками в склизкую дубовую доску, но звуки утопали, как в вате.
Не находя себе места, он сновал по подземелью, как призрак, и вскоре, став ко всему безразличным, прижался боком к стенке, не чувствуя ни холода, ни сырости, решил, что так и будет стоять, пока не упадет…
Вспомнилась Качуренко в этой могильной тьме песня: «Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону…» В омертвевшем уже сердце протрубила эта песня. Словно про него сложена. Если бы не умерла Галина, Галочка, Галчонок… Не перешла бы ему дорогу Аглая… Не было бы измены… И не было бы рокового вечера… Не произошла бы самая страшная в жизни ошибка…
Галя, Галина, Галочка… И он уже ничего не замечал. Ни ледяного холода, ни могильной темени, только светились явившиеся из небытия звезды-глаза. И две косы на высокой груди. И улыбка — самая родная, самая дорогая на свете. Вернулись к нему такие далекие и такие близкие времена юности, грозовой, боевой.
Он не ощущал ни едких испарений подземелья, ни холода, ни сырости — видел только давно забытый, исчезнувший было бесследно, растворившийся в памяти, канувший в небытие, затененный другой образ женщины, бывшей для него когда-то символом счастья, будущего, самой жизни.
Галя, Галочка, Галчонок. С косой, в солдатской гимнастерке, в буденовке и с краснокрестной сумкой через плечо. С материнским взглядом больших серых глаз, таких теплых и таких родных…
Это было счастье — вспоминать. Тщательно, по-хозяйски перетряхивал все, что закладывалось в кладовые памяти, сберегалось на черный день. Черный день настал, раскрылись перед Андреем тайные кладовые-клетки, память расщедрилась — любуйся, человече, всем, что приобретено, радуйся, прощайся с ним.
Пяти лет не исполнилось ему, когда отец пал от пуль жандармов на киевской улице, не пожалели они пуль против восставших саперов и рабочих. Гаврило Качуренко пришел в Киев из глухого села в поисках заработка, пристроился к рабочей компании, не отставал от нее ни в чем, вместе со всеми ходил на работу, жил такой же жизнью, какой жили другие, в опасное время вышел на баррикады и не вернулся. Как сквозь сон вспоминался он теперь сыну. Так же, как и мать. Она вынуждена была вернуться в родное село, батрачила по людям, гнула спину на своего же кума, простудилась осенью, вымачивая хозяйскую коноплю в студеной воде, слегла, сгорела в горячечном огне, оставила восьмилетнего Андрейку. К счастью, восьмилетнего, уже пастушка. Крестный взял его к себе, принуждал к самой разнообразной работе, опасался, как бы не вырос лодырем…