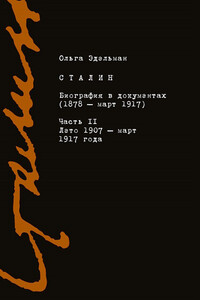Сталин, Коба и Сосо. Молодой Сталин в исторических источниках | страница 42
Прошло буквально несколько лет, и к концу 1920-х те же самые бакинские партийцы принялись наперебой вспоминать о выдающейся и руководящей роли Сталина в революционном движении. В протоколе общего торжественного собрания Азербайджанского общества старых большевиков 20 декабря 1929 года читаем заявление председателя собрания Рахметова: «Правлению Общества старых большевиков поручено собрать все сводки о деятельности товарища Сталина в Баку и, если материал получится небольшой, то мы его опубликуем в газете, но если же он окажется обширным, то можно будет издать брошюру. Относительно брошюры дело в том, что имеется категорическое возражение самого Кобы против издания брошюры, а насчет газеты он вероятно возражать не будет»[93]. Такого рода примеров неодобрительных высказываний Сталина по поводу воспоминаний о себе, остановленных по его указанию публикаций известно немало[94], и не стоит, пожалуй, усматривать в этом только лишь проявления известной показной скромности диктатора. В приведенном контексте довольно легко представить себе и обиду злопамятного Сталина на бакинских товарищей, и его скепсис по поводу их мемуаров, и нежелание дать им возможность покрасоваться в отраженных лучах его славы, похвастаться былой близостью к вождю.
В тридцатые годы культ нарастал, однако на фоне разгула прославления Сталина процесс создания воспоминаний о нем развивался отнюдь не столь же поступательно. Деятельность Истпартов была свернута, все публикации из прошлого большевизма взяты под строгий контроль ЦК ВКП(б), исторические публикации о самом Сталине выходили особенно скупо. Все это сказалось и на интенсивности создания мемуаров о вожде: в начале 1930-х годов заметен спад и новое оживление к концу десятилетия, видимо, связанное с подготовкой к 60-летнему юбилею Сталина в декабре 1939 года. Впрочем, говоря о динамике написания воспоминаний, нужно учитывать еще более или менее случайные локальные обстоятельства. Например, большой массив рассказов жителей Курейки был записан директором местного музея Сталина в начале 1940-х годов, и обусловлено это было, очевидно, его личной активностью.
Таким образом, получается, что во время относительной свободы описания недавней партийной истории в двадцатые годы о Сталине не писали по причине отсутствия широкого интереса к его персоне, а если и писали, то не очень правдиво, это были скорее вбросы компрометирующих сведений на фоне борьбы за власть. Затем в период культа личности писать было можно лишь в рамках, заданных официальной пропагандой: восторженно, с преувеличением его значения и заслуг, приписывая ему чуть ли не с пеленок руководящую роль в закавказском революционном движении. После XX съезда КПСС имя Сталина отовсюду вычеркивалось и подлежало забвению. Некоторые авторы, как вдова Орджоникидзе, стали просто обходить его молчанием, другие престарелые большевики одними умолчаниями не ограничивались и принялись активно пересочинять прошлое и с шумом изгонять из него бывшего великого вождя.