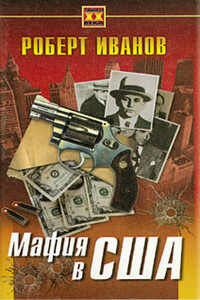Натюрморт с удилами | страница 51
Действительно, Терборх производит впечатление художника самобытного, не имеющего предшественников, не подверженного внешним влияниям или развитию, поэтому он легко узнаваем. Но так ли это на самом деле? По крайней мере два его полотна не дают мне покоя. Первое — «Семья точильщика» в берлинском музее Далем.
В глубине двора мрачный сарай, кое-как слепленный из досок, — мастерская ремесленника, склонившегося над шлифовальным кругом, ожидающего клиента. С правой стороны нечто, что когда-то могло быть домом, однако время превратило его в одноэтажное кирпичное строение с осыпающейся штукатуркой. Три темных отверстия показывают, где находились окна и двери. Мать, ищущая в голове у ребенка, поверхность двора, вымощенная булыжником, перевернутый стул, разбросанные в беспорядке инструменты. Все вместе взятое — образец заброшенности, разложения, нужды. С какой неистовой тщательностью этот художник элегантности и синтеза прослеживает все отталкивающие подробности, невыносимые детали! Так писали сторонники натурализма в середине XIX века, стараясь пробудить сочувствие к тяжкой доле городского пролетариата. Но каким образом попал в этот уголок нужды блестящий советник Терборх?
«Процессию флагеллантов» из роттердамского музея Бойманса ван Бёйнингена я без колебания принял за ошибку рассеянного хранителя, который повесил испанского художника среди голландцев. «Процессия» — это сцена, составленная из острых, резких светотеневых контрастов. Настроение страха, таинственности колеблется в ней между душераздирающим криком и гробовым молчанием. Свет, создаваемый горящими факелами, образует посреди густого, почти телесного сумрака блестящие лужицы. Слева что-то вроде алтаря или трибуны. Посередине три экзорциста в белых одеяниях и белых конусообразных колпаках, напоминающие хищных зверей, взятых из атласа кошмарных призраков. И наконец, мы видим привязанного к ограде или стене человека с распростертыми руками, обнаженного по пояс, на которого через минуту посыплется град ударов бичом.