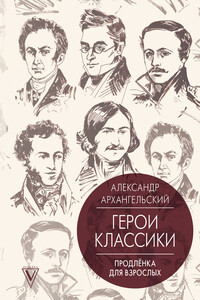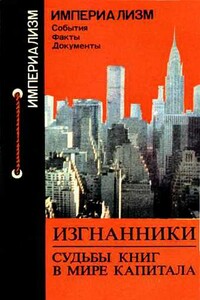Данте в русской культуре | страница 66
Глава 5. Данте и В. Белинский
Впервые Белинский печатно высказался о Данте в статье «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя“». Статья была опубликована в «Телескопе» за 1836 г. Белинский не знал итальянского языка и, вероятно, не читал «Божественную комедию» на французском, но ко времени выступления критика уже существовали опыты перевода отдельных песен «Ада» А. Норова и П. Катенина, «дантовские» стихотворения Пушкина и исследование С. Шевырёва «Дант и его век». В 1835 г. вслед за диссертацией Шевырёва в «Журнале Министерства народного просвещения» появилась статья о «Божественной комедии» профессора Главного педагогического института Ф. Лоренца, она обнаружила изрядную начитанность автора в дантоведческой литературе. Лоренц, как и Шевырёв, хорошо знал работы итальянских, французских и немецких ученых. Через год в этом же журнале Шевырёв поместил довольно большую статью «О первых поэтах Италии, предшествовавших Данту», где уделил немало внимания лингвистическим идеям гениального тосканца. Незадолго до публикации статьи состоялись представления «Уголино» Н. Полевого в Москве и Петербурге. А через пять лет, в 1842 г., был издан полный перевод «Ада», исполненный в прозе Е. Кологривовой и с одобрением отмеченный Белинским[295]. Этот краткий обзор дантологических произведений и трудов[296], вышедших при жизни критика, помогает с большей ясностью представить, из чего исходил Белинский, формулируя свое отношение к личности и творчеству Данте. Так, в 1839 г. в письме к И. И. Панаеву он сообщал об одной немецкой статье, посвященной Алигьери, в которой доказывалось, что «сей муж» совсем не поэт, а его «Divina Comedia» – «просто стилистика». «Я, – добавлял к этому Белинский, – то же и давно думал и говорил…»[297] Но впоследствии свой скептицизм по отношению к автору «Комедии» критик объяснял скверными переводами и неудачными критическими опусами о Данте [V, 270].
В упомянутом «Телескопе» статья Белинского была направлена против Шевырёва как главного критика «Московского наблюдателя», в ней шел спор о функциях и характере критики, о которой Белинский утверждал, что она есть «движущаяся эстетика» [II, 125]. Под сомнение ставилась и общественно-литературная позиция журнала, вызывала подозрение так называемая «светскость» «Московского наблюдателя». Светскость понималась как политический консерватизм и как литературное ретроградство. В борьбе с нею Белинский выступил против критики, которая замыкалась в сфере изящного и рассматривала судьбу художника в отрыве от социальных, идеологических и политических коллизий, которыми живет общество. В связи с этим Белинский писал: «И всегда ли общество является гонителем и врагом поэта? Оно изгнало Тасса, но не за поэзию, а за любовь, на которую не почитало его вправе; оно изгнало Данта, но не за поэзию, а за участие в политических делах…» [II, 155]. Отстаивая материалистические воззрения в области критики, Белинский отвергает романтическую оппозицию художника-гения и толпы и впервые обращается к личности Данте, его драматической судьбе.