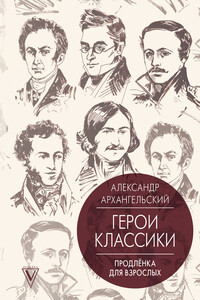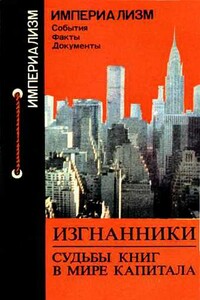Данте в русской культуре | страница 65
. Как и Данте, Гоголь надеялся на «разгадку тайны», на «откровения». «Сочинения мои, – говорил он, – так тесно связаны с духовным образованием меня самого и такое мне нужно до того времени вынести внутреннее, сильное воспитание душевное, глубокое воспитание, что нельзя и надеяться на скорое появление моих новых сочинений» [XII, 222]. Между тем для того, чтобы выразить «русского человека вполне» [VIII, 404], в том идеале, в каком он должен быть, нужен был воистину «дантовский глаз», который, словно взор Фаринаты, способен был разомкнуть «Сокрытые в грядущем времена» [Ад, X, 98]. В этом смысле интересно признание Гоголя: «Была у меня точно гордость, – сообщал он А. О. Смирновой, – но не моим настоящим, не теми свойствами, которыми владел я; гордость будущим шевелилась в груди – тем, что представлялось мне впереди, – счастливым открытием, которым угодно было, вследствие божией милости, озарить мою душу…» [XII, 504]. В процессе работы над поэмой он все глубже утверждался в уверенности своего пророческого дара, дара провидения. Ему казалось, что он свершит то, «чего не делает обыкновенный человек» [XI, 48], что «кто-то незримый пишет» перед ним «своим могущественным жезлом» [XI, 75]. И эта «глубокая, неотразимая вера, что небесная сила» помогает ему на поприще, где только и может разрешиться загадка его существования [XII, 69], была несомненно близка дантовскому признанию божественной обусловленности творческого акта[292], этим стихам XIII песни «Рая»: Все, что умрет, и все, что не умрет, – Лишь отблеск Мысли, коей Всемогущий Своей любовью бытие дает… [152–154]. В 1843 г., сообщая о своей работе, Гоголь писал В. А. Жуковскому: «Такие открываются тайны, которых не слышала дотоле душа, и многое в мире становится после этого труда ясно» [XII, 239]. Сознание приобщенности к «неизреченному» смыслу русской жизни и жизни вообще давало ему повод ощущать себя «судьей стран и убеждений»[293]. Подобную позицию одинокого пророка и верховного судьи провозглашал, обращаясь к Данте, Каччагвида: «… и будет честь тебе, Что ты остался сам себе клевретом» [Рай, XVII, 68–69]. Перекличка с этими стихами слышится и в одном из московских писем Гоголя. «Хотел бы я, – писал он, – чтобы по прочтении моей книги люди всех партий и мнений сказали: „он знает точно русского человека; не скрывши ни одного нашего недостатка, он глубже всех почувствовал наше достоинство“» [XIV, 92]. Автор задуманной трилогии, как и Данте, мнил себя апостолом истины и, несмотря на несоизмеримость присущего ему гения с общенациональным, общечеловеческим опытом, имел право на такое притязание, ибо, как и великий тосканец, был выразителем совести своей нации. Вот почему гоголевский смех, как и гнев творца «Божественной комедии», снедает самого себя, на что так чутко и с тоскою отозвался Пушкин: «Боже, как грустна наша Россия!» [VIII, 294]. Поэма была «душевным делом» Гоголя, и к нему могут быть отнесены слова, сказанные в адрес «величайшего мага Италии»: «О чем бы ни размышлял, о чем бы ни фантазировал Данте, он пишет кровью сердца. Он – не Гомер, невозмутимый и безличный созерцатель, он весь здесь, всем своим существом, настоящий „микрокосмос“, жизненный центр этого мира, его апостол и вместе с тем его жертва»
Книги, похожие на Данте в русской культуре