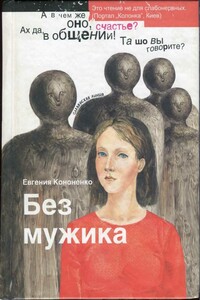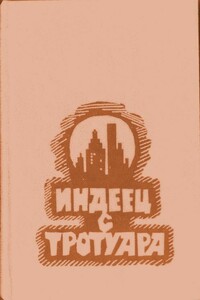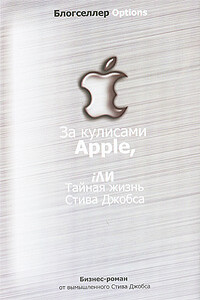Агатангел, или Синдром стерильности | страница 50
Это монотонное и скучное развлечение — заполнение карточек — казалось мне тогда не менее интересным, чем приключения зануды Вити Малеева. Я могла часами представлять себе каждого посетителя своей виртуальной библиотеки, в которой на выдачу было всего 80 книг, на остальные родители не разрешили мне поставить коды. Мне было интересно мысленно обсуждать с посетителем прочитанное и спрашивать, например, почему книги Павла Загребельного ему нравятся больше, чем произведения Романа Иванычука, и наоборот.
При этом ни мне, ни моим воображаемым читателям никогда не приходило в голову критиковать те или иные книги, искать в них захватывающий сюжет или возмущаться их соцреалистической серостью, и, наверное, именно это превращало игру в какую-то болезненную компенсацию всего, чего так не хватало в книжной реальности моего детства. Теперь мне кажется просто ужасной мысль, что я могла часами заниматься таким бессмысленным делом, как переписывание фамилий и названий с одного листка бумаги на другой, и даже получать от этого удовольствие.
Хотя, с другой стороны, то, чем я занимаюсь теперь, все эти колонки цифр и названий телепередач напротив цифр мало чем отличаются от моей детской игры в библиотеку. И иногда мне даже удается ощутить нечто близкое к медитативному удовольствию от этой убаюкивающей повторяемости, от возможности делать это автоматически, не задумываясь. И наверное, если тренироваться годами, то можно снова вернуться к тому детскому довольному отупению, когда обреченно и спокойно воспринимаешь факт, что занятие твое, как и все твое существование, — серое и неинтересное, зато комфортное и обеспеченное. Все сводится к устоявшимся ритуалам, простому делению на белое и черное, к игнорированию мелких, хотя и неотвратимых изменений в сознании.
Последнее время я все реже посещаю пятничные «импрезы» в ПТУ № 13 — только когда меня затаскивает туда Теобальд, которому очень нравится творческая тусовка Тигирина. После действа мы обычно собираемся еще и у меня, и тогда ради Теобальда все переходят на английский, а Теобальд и далее пользуется украинским, но, в отличие от нашего английского, его украинский уже почти идеален.
Последнее время я все чаще пытаюсь не думать о кризисе среднего возраста, кризисе, к которому неуклонно приближаюсь (а возможно, уже незаметно приблизилась) и о котором стало так модно говорить в среде причастных к «тигиринскому феномену», что иногда может сложиться впечатление, что пресловутый кризис переживает сама эта среда. Хотя я, конечно, не чувствую в себе достаточной компетентности, чтобы ставить такой серьезный диагноз.