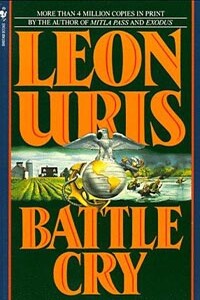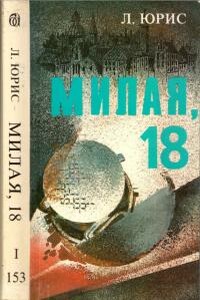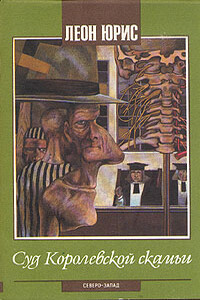Суд королевской скамьи, зал № 7 | страница 53
18
Адам закрыл книгу и положил ее на стол.
— Ну, и ты, значит, думаешь, что я это делал, Терренс Кэмпбелл?
— Конечно, нет, доктор. Я чувствую себя как последний сукин сын. Видит Бог, я не хочу вас обижать, но ведь это напечатано, и сотни тысяч, если не миллионы людей это прочтут.
— Возможно, я слишком ценил наши отношения и поэтому не считал нужным все это тебе объяснять. Вероятно, я был не прав.
Адам подошел к книжному шкафу, отпер нижний ящик и вынул три больших картонных коробки, набитых бумагами, папками, газетными вырезками и письмами.
— Думаю, что пора тебе все узнать.
И Адам начал с самого начала.
— Наверное, никому невозможно объяснить, что такое концлагерь, и никто не сможет понять, как такое могло существовать. Мне до сих пор все это представляется в сером цвете. Мы четыре года не видели ни дерева, ни цветка, и я не помню, чтобы там светило солнце. Я часто вижу это во сне. Вижу стадион, где сотнями шеренг выстроены люди — безжизненные лица, мертвые глаза, выбритые головы, полосатая одежда. А за последней шеренгой — силуэты крематория, и я ощущаю запах горелого человеческого мяса. И еды, и лекарств там всегда не хватало. День и ночь я видел из своей больницы бесконечные вереницы заключенных, которые тащились ко мне.
— Доктор, я просто не знаю, что сказать.
Адам рассказал о заговоре против него, о муках, перенесенных в Брикстонской тюрьме, о том, что не видел своего сына Стефана, пока тому не исполнилось два года, о бегстве в Саравак, о своих кошмарах, о пьяном забытье — обо всем. У обоих по щекам текли слезы, а он все продолжал говорить — спокойно и бесстрастно.
Когда первые лучи серого рассвета проникли в комнату и за окном стало слышно, как просыпается город и как автомобильные шины шипят по мокрому асфальту, он умолк.
Они долго сидели неподвижно. Потом Терри покачал головой.
— Я этого не понимаю. Просто не понимаю. Почему евреи должны вас так ненавидеть?
— Ты наивный человек, Терри. Перед войной в Польше жило несколько миллионов евреев. Мы получили независимость только в конце Первой мировой войны. Евреи постоянно пытались снова ее у нас отнять, они всегда были среди нас чужими. Они были душой Коммунистической партии, это они виноваты в том, что Польшу снова отдали России. С самого начала это была борьба не на жизнь, а на смерть.
— Но почему?
Адам пожал плечами:
— В нашей деревне все были в долгу у евреев. Ты знаешь, как я был беден, когда приехал в Варшаву? Первые два года моей комнатой был чулан, а постелью — куча лохмотьев. Чтобы иметь возможность позаниматься, мне приходилось запираться в уборной. Я все ждал и ждал, когда меня примут в университет, но мест не было, потому что евреи пускались на любые уловки, чтобы обойти процентную квоту. Ты считаешь, что система квот несправедлива? Но если бы не она, они скупили бы все места во всех аудиториях. Их хитрость и коварство превосходят всякое воображение. Евреи, профессора и преподаватели, пытались контролировать все стороны университетской жизни. Они совали свой нос повсюду. Я вступил в Национальное студенческое движение и гордился этим, потому что там я имел возможность бороться с ними. А позже евреям-врачам доставались все лучшие места. Однажды мой отец допился до смерти, и матери пришлось работать до конца своей недолгой жизни, чтобы расплатиться с евреем-ростовщиком. Я всегда стоял за польский национализм, и за это мою жизнь превратили в ад.