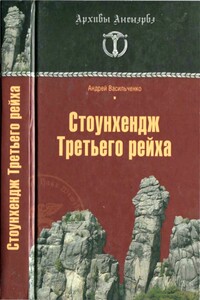Стальной век: Социальная история советского общества | страница 31
Но на пути их слияния, как оказалось, стояли огромные препятствия как идейного, так и организационного и тактического характера.
В России к моменту начала революции в 1917 г. не успели возникнуть и оформиться массовые организации трудящихся, действительно независимые от политических партии и пришедшие к выводу о возможности обойтись без посредничества государства. Здесь не существовало ничего похожего на многосоттысячные революционные анархо-синдикалистские профсоюзы в Испании. Рабочие могли требовать самоуправления на своем предприятии, но не имели организации для самостоятельной координации производства и обмена с другими заводами, шахтами или крестьянскими хозяйствами, да и не очень хорошо понимали, как можно наладить такую систему безгосударственного «планирования снизу». Представитель немецкого Свободного рабочего союза А.Сухи, посетивший Россию в 1920 г., свидетельствовал: рабочие брали предприятия в свои руки, но не знали, как организовать производство и распределение продуктов на новых началах, у них не было для этого соответствующих инструментов (например, массовых потребительских союзов или синдикалистских профсоюзов) . Крестьяне в большей мере придерживались местной ориентации: общинная традиция исходила из сочетания самоуправления «мира» и государственного регулирования отношений между общинами. Попытки наладить прямой продуктообмен снизу между городом и деревней при всем желании не вышли из стадии первых экспериментов; к тому же они строжайшим образом пресекались властями.
Российские трудящиеся накопили в дореволюционный период богатый опыт борьбы с государством, помещиками и предпринимателями. Но их сопротивление носило преимущественно локальный, местный характер; как только оно выходило за эти частичные рамки, как тут же оказывалось под контролем или влиянием той или иной политической партии, которая подчиняла их усилия своей стратегии завоевания власти и изменения общества «сверху». Рабочие и крестьяне знали, чего они не хотят, но очень смутно представляли себе контуры свободного общества, где их стремления к самоуправлению были бы реализованы в виде всеобщей «модели». В большинстве своем они предпочитали, чтобы «власть» как можно меньше вмешивалась в их жизнь (особенно это относилось к крестьянам), но, в то же самое время, не понимали идей о безгосударственном, безвластническом социальном устройстве. Не обладая ни системной «идеей-силой», альтернативной по отношению к модели индустриально-капиталистической модернизации, ни соответствующими разветвленными и скоординированными механизмами для ее реализации, трудящиеся зачастую проявляли готовность мириться с такой властью, которая, как им представлялось, не станет посягать на их завоевания.