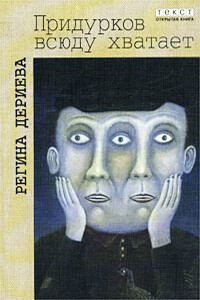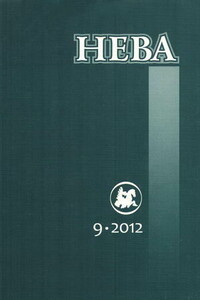Голубая акула | страница 15
— Похожа на Снежную королеву, — изрек я.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Под отчим кровом
Мои родители… В детстве я постоянно злился на них, то скрежеща от праведного гнева, то наливаясь плаксивой обидой. Они никогда меня не понимали. Бессмысленно ограничивали мою свободу. Любили младшего сына Борю несравненно больше, чем недотепу-старшего… Я так хотел бы верить, что они живы, что Боря с ними, что на старости лет у них есть крыша над головой, покой и отрада! Попав после госпиталя в Тифлис, я писал им несколько раз, но шла Гражданская война, почта не доходила, а вернувшись в Москву, я их уже не застал.
Соседи передали мне толстый мятый конверт. Мама писала, что они пережили невообразимо ужасные дни, что уезжают на юг и надеются оттуда попасть за границу. Она умоляла меня поспешить вслед, твердила, что там мы будем навсегда, навсегда вместе, и чернила расплывались на страницах бледными широкими пятнами. Ни денег, ни сил для такого путешествия у меня не было, и взять было негде.
Я вспоминаю о них с нежностью. Даже о ней. А в детстве, забравшись под одеяло и зажмурившись, бывало, повторял в бешенстве: «Лицемерка! Притворщица! Комедиантка! Никогда не прощу!»
Знакомые находили маму прелестной. Сколько помню себя, вокруг как будто все время шелестело: «Наташа талант, большой талант… право, жалость, что все так…» Знакомых было много. Рои. Полчища. Отцовское весьма приличное жалованье уходило на мамины приемы, и я с малолетства привык к домашним спорам из-за очередной покупки, еще одного званого обеда, а впрочем, из-за чего угодно.
Отец был хмур. Вся его фигура, даже спина выражала чрезвычайное недовольство — может статься, не мамой, а миропорядком. Мне всегда казалось, что папа не одобряет землю и небо, а также то, что находится между ними, почти без изъятий. Но мама говорила, что она прекрасно все понимает. Его молчание демонстративно, оно направлено против нее, пусть он посмеет сказать, что это не так!
При малейшем противоречии мама взрывалась и со слезами на глазах осыпала его упреками: «Если бы не ты… я пожертвовала всем… и после этого ты еще позволяешь себе… ничтожество!..» Это она говорила о таланте, о театре, где мама блистала бы, обожаемая публикой, если б не отдала себя семье, которая теперь платит ей такой черной неблагодарностью.
С младенческих лет я ненавидел ее крики, этот злой звенящий голос терзал меня невыразимо. Но при всем том я считал, что так и есть: в маме погибает великая артистка, вторая Рашель. Так было, пока однажды во время подобной сцены дедушка не вышел из своей комнаты, бледный как полотно, и не закричал (а от него крика никто никогда не слышал):