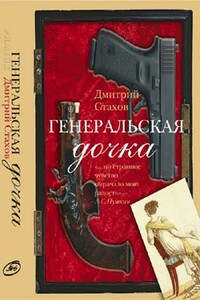Истории простой еды | страница 57
Это все сейчас. А раньше…
…Много лет назад писатель Виктор Ерофеев признавался, что многие его взгляды и привычки сформировались из-за того, что в молодые годы он был перекормлен черной икрой. Автор этих строк, как минимум – в детстве, принадлежала к совершенно иной «страте» советского общества, чем сын дипломата, «золотой мальчик» Ерофеев. Можно сказать, к той, которая была максимально удалена от «столичного бомонда». И от таких, ныне почти забытых прелестей советского образа жизни, как распределитель.
Маленький городок на впадавшей в Каспий большой реке. Очереди за самым необходимым. Только та самая заветная черная икра и рыба осетровых пород благодаря браконьерам были доступны в неограниченном количестве. До сих пор перед глазами маленький казахский мальчик, чумазый, бредущий по пыльной улице с огромным куском хлеба и толстым слоем икры на нем. Или лежащий в прихожей осетр, рано-рано утром принесенный рыбаками. Настолько огромный, что через него, отправляясь в школу, было трудно перешагнуть. И еще тогда, в детстве, подспудно, потаенно зародилась мысль о связи еды со статусом, властью. Вернее – с близостью к ней. Крайности, таким образом, сошлись, чтобы потом вновь разойтись. И уже окончательно.
Да, осетровые и черная икра не случайно стали в России признаком благополучия и значимости. Недаром осетровых на Руси называли «красной рыбой». «Красная» в смысле «красивая», «дорогая», «ценная». Она была обязательным украшением царского стола. Иван Грозный обожал уху из сизьменской стерляди. Правда, после введения в эксплуатацию канала Москва – Волга и реки-то такой, Сизьмы, больше нет. Вместо нее – Сизьменский разлив чуть севернее Череповца. В лучшем случае теперь можно выловить разве что подлещика или окуня. В худшем – придется довольствоваться бычками в томате из консервной банки. Грозный бы очень расстроился и принял бы меры. Скорее всего – радикальные. А Иван Васильевич к рыбе относился всерьез. Недаром же он, изгнав в 1554 году из Астрахани хана Ямгурчея, ставленника крымского хана, обязал нового хана ДервишАли поставлять к своему двору 3000 крупных белуг и осетров ежегодно. Русским же официально разрешили беспошлинно ловить рыбу «от Казани до моря». А то ведь во времена Золотой Орды астраханские татары, чтобы осетровые не доходили до «русских вод», придумали перегораживать протоки и ставить на главных рукавах Волги так называемые учуги – бревенчатые сооружения, посередине которых для задержки рыбы строились ловушки-избы и дворики в виде заборов. Дервиш-Али, впрочем, вскоре так же, как и его предшественник, переориентировался на Крым, и Грозному вновь пришлось посылать войска. Тут можно долго спорить о государственных интересах, сферах влияния, борьбе Русского царства с остатками некогда грозной Золотой Орды, но, быть может, все объясняется любовью московского царя к осетринке? Тираны и самодержцы все такие чревоугодники…