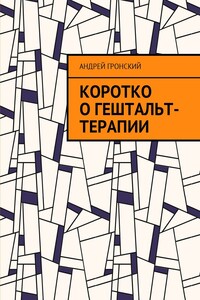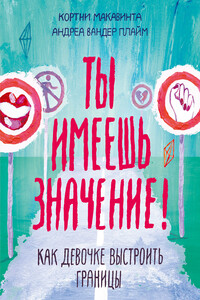Психология духовности профессионала | страница 27
Казалось бы, реформаторские силы государства должны были поддержать здоровые армейские начинания прежде всего в коррекции идеологии воспитания уважения к армии, оптимизации военной доктрины и соответственно структуры и принципов построения профессиональной армии в соответствии с новыми военно-политическими реалиями как в стране, так и вдоль ее границ. Но все было наоборот: в ответ на все беды, свалившиеся на военнослужащих, ученых и рабочих в оборонной промышленности (атомная, тяжмаш, средмаш, авиационная и пр.) была начата оголтело-бессовестная травля. Армия, в которой служили и на которую работали согласно Конституции, была представлена как монстр тоталитаризма, как угроза демократическим преобразованиям в стране. Пропаганда не без помощи вчерашних цековских лидеров, высоконаучной кремлевской челяди, марксистских водолеев, слегка акцентуированных салонных супердемократических дам и процветающих диссидентов вколотила народу: «Наша тоталитарная держава, опираясь на армию, действительно стала империей «зла». По коварству это был «сталинский удар» по святой, хотя и наивной вере офицерского корпуса в свою необходимость. Это не пустые слова. Ибо все тяготы и лишения воинской службы, а они касаются без преувеличения 70–80 % личного состава, военнослужащими воспринимались как воинский долг перед Отечеством. И это было, было(!) и даже не на языке, а в душе. Особенно деморализовало офицеров бедственно-бесправное положение семьи, т. е. своего тыла, превращенного в открытый болезненный укор. Проведенные специальные исследования, изучающие психологическую установку на продолжение службы, показали, что в 50–60 % случаев эту установку формирует семья.