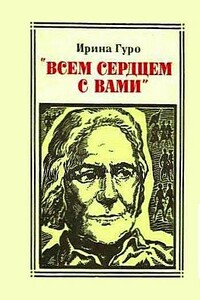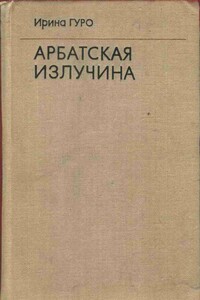Песочные часы | страница 9
Но я даже и подумать не мог, что так недолго. И совсем не помнил, как я добрался сюда, каким образом. Но только вот они — рельсы, и, конечно, не белые, а вовсе черные, потому что ведь ночь. Правда, светлая ночь, неизвестно почему: луны нет, только мерцание какое-то вверху. Непонятное такое мерцание, да мне и ни к чему. Хорошо одно: что рельсы не белые.
Вдруг я вспомнил: чему же я радуюсь? Поезд-то имеет свой собственный свет, который он расстилает перед собой, словно разматывает впереди себя узкий коврик. Но опять-таки неважно: на такой скорости… Не помню, какая именно скорость, но вполне достаточная… Для чего? Для того, чтобы не было возможности затормозить.
«Самый удобный транспорт!» Да стоит ли думать, как я здесь очутился? Важно то лишь, что вот она передо мной, колея, рельсы, лежащие так плотно на балласте, словно вшитые в него. Даже так говорят: «перешивка пути», «перешивка пути по европейским стандартам»…
Странно, что на ощупь рельсы никак не ощущаются, я прижимаюсь лицом и не ощущаю ровно ничего: ни тепла, ни холода. Наверное, я потерял чувствительность. Может быть. Никто не знает, что происходит с человеком в такие вот минуты. А вот слуха я не потерял, наоборот, он даже как будто обострился.
Я лежу, прижавшись лицом к рельсу, тесно, словно я пришит к нему, и слышу рождение звука очень, очень далеко. Он зарождается как слабое колебание воздуха, но уплотняется, какие-то частицы соединяются, напластовываются, неясное дрожание, разрозненность переходит в сплошной, еще слабый, но непрерывный звук. Он непрерывен и как-то «правилен», — вот такой и должен быть звук, когда его ждут, как жду я… Но это нарастание так медленно, словно сопряжено с движением улитки, а не электропоезда.
Вдруг я догадываюсь, что эта медленность кажущаяся: на таком большом расстоянии стираются изменения звука. Конечно! Сейчас шум угадывается точнее, еще неясно, что это: может быть, поезд, а может быть, и ветер. Но что есть шум, тут уж сомневаться не приходится: тут уж все… Странно, что мне ничего другого не приходит в голову; только этот шум, как он слышится все ближе. И вдруг переходит в грохот, который просто разрывает барабанные перепонки, наполняет меня всего. Я словно язык колокола, бьющийся в его сводах, в толстых металлических сводах, из которых некуда выйти… А потом уже ничего больше нет.
Я должен все обдумать. Невозможно, чтобы не было никакого выхода. Да ведь это уже было… Что же произошло потом?