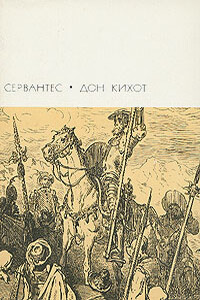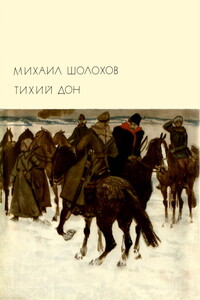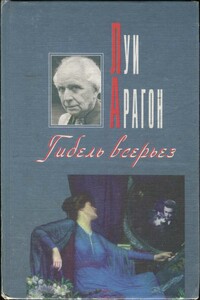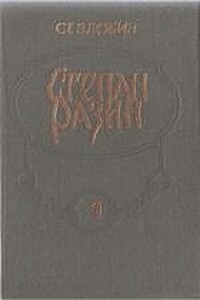Страстная неделя | страница 14
Каждый жест Ромэна Рафаэля сценичен, подобно тому как у Жерико каждый взгляд — взгляд художника. Но что для Жерико — гармония таланта, то для Ромэна Рафаэля — утомительный тик привычки. Он пытается показать в лицах свою жизнь, повернуть к свету рампы «каждый уголок своей души» («душа как вставная челюсть на столике»), но психологическая глубина оказывается просто мелью, с которой не так просто сойти, если потерял личность.
Автор то полностью отождествляет себя с героем, то смотрит на него холодно и отчужденно, призывая читателя верить любви — «вот мой антитеатр, где я возрождаюсь, становлюсь просто человеком» — и яростно «трясти дерево жизни обеими руками, чтобы в тебе самом зажглись звезды». Автору больно и временами неприятно присутствовать при душевном эксгибиционизме стареющего человека, почти гордящегося тем, что он потерял себя. Что ж, седина — не паспорт мудрости.
Двадцатилетний Жерико ближе к точке истины, чем сорокалетний Рафаэль, слышащий отчетливее стон собственной эгоистичной души, чем призывы о помощи, раздающиеся вокруг. Жерико понял: прежде чем подойти к подрамнику или рампе, надо узнать, полюбить тех, кого ты покажешь; он понял, что произведение искусства может само стать элементом живой жизни, если, закрывая книгу или отходя от полотна, человек встревожится горем незнакомых ему людей.
«Страстная неделя» принадлежит именно к таким произведениям; не пытаясь морализировать или давать готовые рецепты, она учит высокому чувству ответственности — за отблеск радости в глазах друга, за верность законам Истории, за яркий талант, который — как и сам язык — дарован человеку для общения с современниками и потомками.
Т. Балашова
Страстная неделя
Эта книга не является историческим романом. Любое сходство персонажей романа с подлинными историческими личностями, равно как и совпадение имен, географических названий, деталей, по сути дела лишь чистая игра случая, и автор вправе снять с себя всякую за это ответственность во имя неписаных законов воображения.
А.
I. Утро вербного воскресенья
Помещение, которое отвели сублейтенантам, освещалось единственной свечой на столе, и огромные тени игроков всползали на стены, переламываясь в пояснице на потолке. Уже начинали бледнеть в предрассветном сумраке давно не мытые оконные стекла.
Помещение сублейтенантов… вернее сказать, Пантемонская казарма; здесь еще два месяца назад были расквартированы части королевского конвоя, отряженные ныне в провинцию, здесь не только сублейтенанты, но и лейтенанты не имели своих коек, — не хватало коек даже мушкетерам, которые, как и другие королевские гвардейцы, в армии фактически носили чин лейтенанта, — поэтому местные, парижане, как, например, Теодор, ночевали у себя дома, а большинство провинциалов снимали номер в гостинице. Но, с тех пор как была объявлена тревога, все сбились в казарму, и поскольку сюда свели только офицеров, чины особых преимуществ не давали. В помещении сублейтенантов (сублейтенантов, которые в действительности были подполковниками) можно было встретить, что объяснялось личными связями, наряду с этими сублейтенантами-подполковниками также лейтенантов, бывших всего лишь мушкетерами. Например, Теодора… Поэтому-то казарма скорее походила на училище, где старички берут новеньких под свое покровительство. Теодора, во всяком случае, офицеры приняли радушно, прежде всего потому, что он имел репутацию классного наездника, из тех, что бывают у Франкони. Десять тревожных дней… Десять дней, в течение которых спали вповалку чуть ли не друг на друге — и старички и новенькие. Само собой разумеется, наш Теодор спал ближе к дверям, потому что у дверей нашлась свободная койка, зато на верхнем этаже мушкетеры разложили тюфяки прямо на полу. Десять дней…