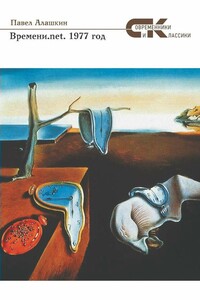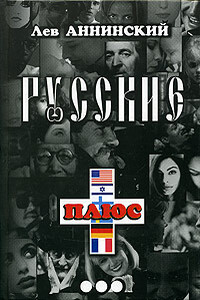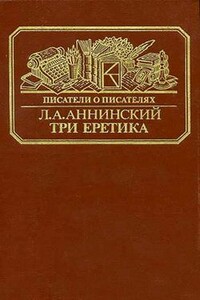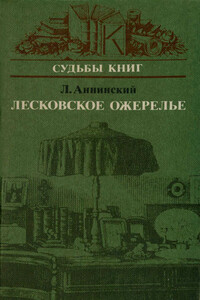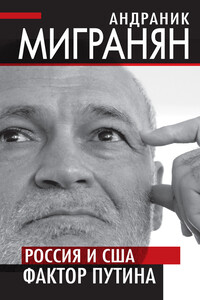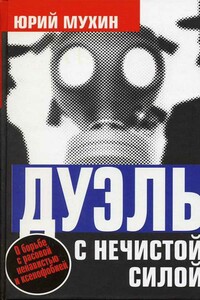Откровение и сокровение | страница 8
Но вряд ли это можно угадать, скажем, в начале шестидесятых годов девятнадцатого века, когда логика борьбы разводит Фета и Некрасова на полюса русского сознания. И тем более – в начале сороковых, когда оба они дебютируют первыми сборниками, причем дебютируют похоже, в эпигонски-романтическом духе, и оба – безымянно: один – «Мечтами и звуками», подписанными: «H. H.», другой – «Лирическим Пантеоном», подписанным «А. Ф.».
Оба разгромлены критикой.
С первых шагов Фету ясно, что в литературе его путь не будет легким. И, однако, уже теперь что-то дает ему силы держаться независимо. Что-то за пределами литературы. Пока в журнальном кругу стихи Фета придирчиво читают критики (и это еще только начало!), за пределами этого круга безвестная и бессловесная Россия… не то что читает стихи Фета – она их… поет. Столетие спустя историки словесности осознают этот факт научно; они оценят и мелодическую смелость Фета, сведшего поэзию в «низины» романса, как оценят и мелодическую смелость Некрасова, сведшего ее в «низкую» прозаичность. На практике же всё происходит спонтанно: Варламов кладет стихи Фета на музыку, и «вся Россия» его поет. Да только ли Россия! Плохонький немецкий оркестрик на пароходе, шлепающем до Свинемюнде, пилит «На заре ты ее не буди», стараясь угодить пассажирам из России и не подозревая, что среди пассажиров плывёт двадцатитрехлетний студент, написавший эти строки.
В поздних воспоминаниях старик Фет излагает этот случай со свойственной ему глухой сдержанностью. Но, внимательно читая его стихи той поры, можно узнать, что делалось у него на душе летом 1844 года, когда он плыл на германском пароходике. Как заблистали во мраке его ожившие глаза! Конечно, он не проронил при этом ни слова.
На десятилетия вперед определяется жесткий стиль поведения Фета, соответствующий его независимой линии в поэзии.
Десять лет после окончания университета Фет проводит и армии: хочет выслугой вернуть потерянное дворянство. Он выслуживает чин за чином, а цель каждый раз ускользает: правительство, боясь «оподления» дворянского сословия, поднимает ценз. Десять лет Фет тянет лямку и, наконец, в 1856 году сдаётся. Вернее, решает зайти к цели с другого края. Десять лет армии остаются странным коррективом к его трепетной голубой лирике. Ни «армейским» поэтом, ни бардом воинской славы он себя не ощущает. Стена по-прежнему отделяет его стихи от реальной жизни. В жизни он ведёт себя как надо: подтянутый кавалерист, щеголеватый офицер, расторопный штабист, поэзия здесь ни при чем.