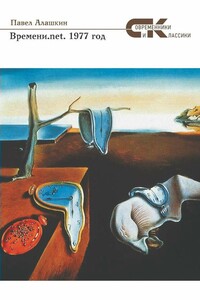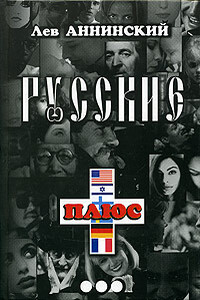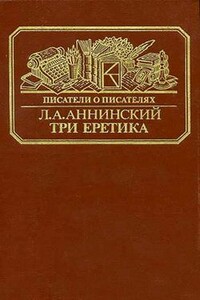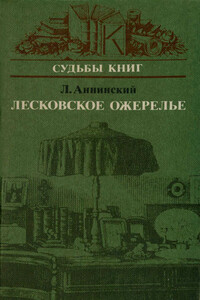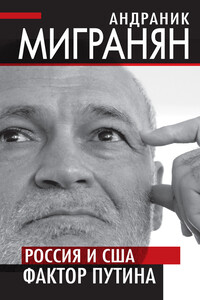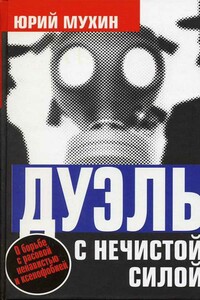Откровение и сокровение | страница 10
Сорок лет спустя после событий больной, задыхающийся старик думает о том, чего стоило двадцатилетней девушке то последнее спокойное прощание – подала ты мне руку, спросила: «Идёшь?» Среди ночи поднимают утаенные ею тогда слёзы – вопли рыданий стоят в ушах. Вновь и вновь вспыхивает видение: бежит пылающая фигура – упасть на дно! уйти в воду! вглубь! – и снова загорается факелом и выплавляет строки, которым предстоит войти в учебники: «ужель ничто тебе в то время не шепнуло – там человек сгорел?» И эти, Толстого поразившие: «Прочь этот сон – в нём слишком много слёз…» И дальше, гениальное: «Не жизни жаль с томительным дыханием, что жизнь и смерть? А жаль того огня…» И вот это, вчитайтесь: «Лечу на смерть вослед мечте. Знать, мой удел лелеять грезы, и там, со вздохом, в высоте рассыпать огненные слезы».
Так догорала любовь, которая когда-то в херсонской глуши шепотом, робким дыханием, трелями соловья прошла через жизнь практичного армейского офицера.
А между тем трели соловья не вяжутся не только с его плотной кавалерийской фигурой; они не вяжутся и с наступающей эпохой. Именно этому стихотворению суждено со временем сделаться главной мишенью пародии и объектом яростного свиста. Пожалуйста: «Топот, радостное ржанье, стройный эскадрон, трель горниста, колыханье реющих знамен…» Еще? «Греч и Третье отделенье, вот моя семья! И природы омерзенье: я, я, я, я, я». И еще в том же роде: «Холод, грязные селенья, лужи и туман. Крепостное разрушенье. Говор поселян…» Безглагольный Фет станет добычей насмешников. Именно эти стихи назовет «лошадиными» Чернышевский и вспомнит: все знали их наизусть и декламировали не иначе как под нараставший общий хохот. Это будет, и скоро. Но к вражде и ярости ляжет путь через триумф. Вражда начнется с 60-х годов, с эпохи нигилистов. Триумф – 50-е: эпоха «либералов», конец николаевского царствования. Истекают семь ужасных лет (1848–1855), и – взрыв надежд, взрыв поэтической активности…
Вторую свою книгу Фет готовит ещё во тьме «страшного семилетия». Сравнительно с литературными баталиями скорого будущего эта операция выглядит смехотворно келейной: Фет едет в Москву за кожей (доброе полковое начальство согласилось прикрыть вояж командировкой), у Фета всего две недели, ему некогда возиться со стихами; он поручает Аполлону Григорьеву подбор, редактирование и корректуру; цензурует рукопись бывший университетский профессор Лешков; не привыкши к «божественному косноязычию» Фета, профессор просит из стихов о гаданье выкинуть строки: «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять» – боится подвоха. Выручает старик Погодин. Он командует: влезьте на табуретку, возьмите «Москвитянин», там это напечатано, да не забудьте поставить на место! – влезают, ищут, сверяют, цензуруют, – а автора уже нет: автор скачет в полк, он больше озабочен возможной встречей с волками, чем судьбой своих стихов.