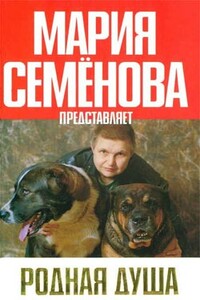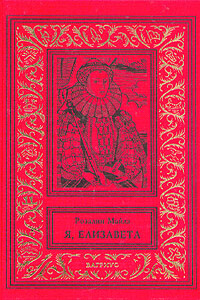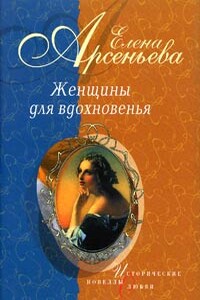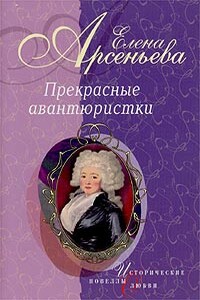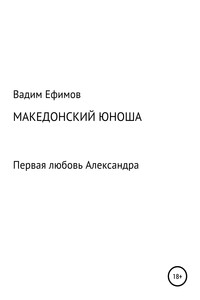Представление должно продолжаться | страница 122
– Но ведь нынче действительно рушится все, что по кирпичику выстраивалось лучшими людьми России на протяжении столетий… Я – ладно… Я немолод годами и уж вовсе стар душой. Но Лиховцев…
– А он вообще не для этого приспособлен, – возразила Жаннет.
– Но для чего же, позволь узнать? – брюзгливо осведомился Арсений. – Мне казалось, дело Лиховцева как раз – говорить вслух, писать и издавать…
– Он всегда был вхож в иные приделы. В момент, когда в огромных массах людей рухнула не только религия, но и вера, его дело – молиться на поле боя. О прозрении живых и прощении павших…
Некоторое время оба молчали. Слышно было, как в буржуйке потрескивают угольки. Потом Троицкий тихо спросил:
– Жаннет… Скажи мне честно, Жаннет, я очень постарел?
– Мы все постарели, – ответила женщина. – И с этим ничего не поделаешь.
Обхватила плечи руками и уставилась в красное окошко буржуйки, где как раз догорал золоченый подлокотник в стиле рококо.
В тех кварталах, где планировались обыски, электричество не отключали на ночь. Обыватели знали об этом и часто не ложились спать, ожидая прихода незваных гостей. Никто не мог толком понять, чего они ищут, и согласно-бессильно считали это просто одним из актов устрашения и деморализации «буржуазного элемента», изобретенных новым режимом.
Дом Гвиечелли был уже заселен красноармейцами и семьями рабочих с фабричных окраин. В небольшой двухкомнатной квартирке под самой крышей ютилась тетушка Катарина со старой нянькой и маленькой девочкой, которая приходилась ей непонятно кем (Катарина знала пять языков, включая древнегреческий, но плохо говорила и совсем не умела писать по-русски, а члены домового комитета не говорили ни на каком другом – поэтому они не смогли даже толком заполнить документы.). Раньше в квартирке жила прачка с двумя дочерьми, которые тоже служили в доме, – нынче все трое уехали в деревню. После бегства всей семьи Гвиечелли и заселения дома у Катарины осталось очень много вещей, теперь она потихоньку носила их на Сухаревку и продавала. Аморе была нетребовательна к еде, ела совсем мало и они не голодали. Дрова тоже были, их привозили на грузовиках для пролетарского элемента, населяющего дом. Домовой комитет помог Катарине установить купленную буржуйку и разрешил за вполне умеренную плату брать четыре полена в день. Каждое утро Катарина по одному носила их по лестнице на шестой этаж. Аморе поправилась и чувствовала себя вполне сносно. Едва ли не впервые в жизни бездетная старая дева почувствовала, что от нее что-то зависит. С присущим всем Гвиечелли художественным вкусом она обставила маленькую квартирку и содержала ее в образцовой чистоте. Тщательно продумывала, в чем пойдет и как причешется для похода на рынок и в домовой комитет. Похудела, помолодела, в меру пользовалась пудрой и румянами (все это осталось от бежавших родственников в явном избытке). Снова, как в далекой юности, душилась любимыми духами «Белая сирень» – по капельке за каждое ушко и еще одна – между грудями, еще вполне белыми и налитыми. Каждый день нагревала на дворце буржуйки щипцы и завивала симпатичные кудельки надо лбом и за ушами. С давно забытым удовольствием смотрелась в небольшое настенное зеркало и легко вспоминала юную, пухленькую и смешливую итальяночку Катарину. Каждый вечер сама упражнялась на пианино, аккомпанировала скрипке Аморе, пела с девочкой дуэтом итальянские арии. Иногда пели втроем со Степанидой – тягучие и тоскливые русские песни, в которых Катарине чудились жуткие просторы и глубины, такие же, как в русских бесконечных дорогах и в русской, темной и непонятной, душе. После таких песен хорошо было плакать, обнявшись, или слушать, как отрешенно, глядя в окно на крыши и темное небо, играет на скрипке Аморе. Жизнь, вопреки всему, казалась Катарине полнее прежнего. О том, что будет, когда кончатся вещи на продажу, она старалась не думать.