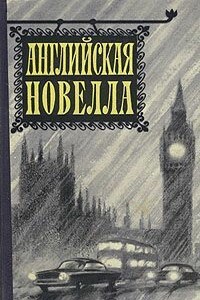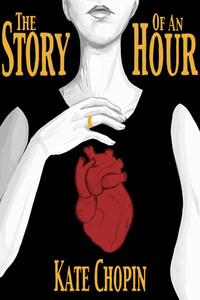Вдали от обезумевшей толпы | страница 44
Мистер Джан Когген, передавший Генери сосуд с брагой, толстощекий, румяный человек с плутовато подмигивающими глазками, вот уже двадцать лет был неизменным участником бесчисленных брачных церемоний, совершавшихся в Уэзербери и прочих близлежащих приходах, и его имя как шафера и главного свидетеля в графе брачных записей красовалось во всех церковных книгах; он очень часто подвизался также в роли почетного крестного, в особенности на таких крестинах, где можно было смачно пошутить.
— Пей, Марк Кларк, пей, в бочке хватит браги, — говорил Джан.
— Я выпить никогда не откажусь, вино — наш целитель, только им и лечимся, — отвечал Марк Кларк; они с Джаном Коггеном были одного поля ягоды, хотя он на двадцать лет был моложе Джана; Марк никогда не упускал случая выудить из собеседника что-нибудь такое, над чем можно было посмеяться, чтобы потом поднести это в компании.
— А вы что же, Джозеф Пурграс, — даже и не пригубили еще, — обратился мистер Когген к скромному человеку, застенчиво мнущемуся сзади, и протянул ему кружку.
— Ну и стеснительный же ты человек! — сказал Джекоб Смолбери. — А правда про тебя говорят, будто ты все никак глаз не решишься поднять на нашу молодую хозяйку, а, Джозеф?
Все уставились на Джозефа Пурграса сочувственно-укоризненным взглядом.
— Н-нет, я на нее еще ни разу взглянуть не посмел, — промямлил Джозеф, смущенно улыбаясь, и при этом весь как-то съежился, словно устыдившись того, что он обращает на себя внимание. — А вот как-то я ей на глаза попался, так меня всего в краску вогнало: стою, глаз не подыму и краснею.
— Бедняга! — сказал мистер Кларк.
— Чудно все же природа наделяет, ведь мужчина, — заметил Джан Когген.
— Да, — продолжал Джозеф Пурграс, испытывая приятное удовлетворение от того, что его недостаток — застенчивость, от которой он так страдал, оказался чем-то достойным обсуждения, — краснею и краснею, что ни дальше, то больше, и так все время, пока она говорила со мной, я только и делал, что краснел.
— Верю, верю, Джозеф Пурграс; мы все знаем, какой вы стеснительный.
— Совсем это негоже для мужчины, несчастный ты человек, — сказал солодовник. — И ведь это у тебя уже давно.
— Да, с тех пор, как я себя помню. И матушка моя уж так-то за меня огорчалась, чего только не делала. И все без толку.
— А ты сам-то, Джозеф Пурграс, пробовал ну хоть почаще на людях бывать, чтобы как-нибудь от этого избавиться?
— Все пробовал и с разными людьми компанию водил. Как-то раз, помню, меня на ярмарку в Гринхилл затащили, и попал я в этакий расписной балаган, там тебе и цирк, и карусель, и целая орава мамзелей в одних юбчонках стоймя на конях скачет; ну и все равно я этим не вылечился. А потом пристроили меня посыльным в женском кегельбане в Кэстербридже, как раз позади трактира «Портной». Вот уж, можно сказать, нечестивое было место. Диво дивное, чего я там только не нагляделся, — с утра до ночи, бывало, толчешься среди этого похабства, а все без пользы; ничего у меня от этого не прошло — как было, так и осталось. Это у нас в семье издавна такая напасть, от отца к сыну, так из рода в род и передается. Что ж поделаешь, и на том надо бога благодарить, что на мне дальше не пошло, а не то могло бы быть и еще хуже.