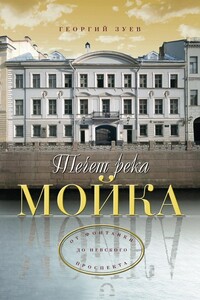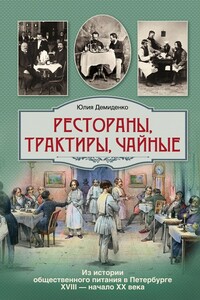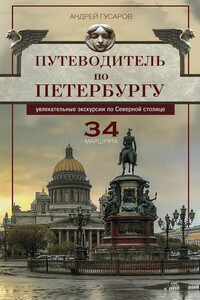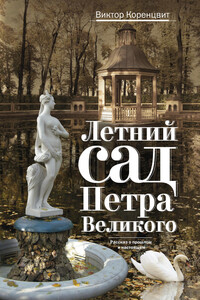Постижение Петербурга. В чем смысл и предназначение Северной столицы | страница 78
Прежде, при учении и с амвона, неустанно провозглашалось, что центр мира — «…Святая Русь, Третий Рим, противостоящий странам “неправильных”, еретических религий; в основе деления мира, его иерархии лежала конфессиональная принадлежность» [3. С. 41]. В этом мире Россия стояла на недосягаемой вершине. Здесь и только здесь всё было истинно правильное — вера и церковь, государственное устройство и домостроевские устои, города и деревни, войско и оружие, одежда и телеги, лавки и сбитень.
Нечастые иностранцы, заезжавшие в далёкую Московию, были поражены самодовольством этого народа, который не знал и не желал знать, как живут в других государствах. Дипломат Адольф Лизек в «Сказаниях о посольстве от императора Римского Леопольда к великому царю московскому Алексею Михайловичу в 1675 году» констатировал: «Простой народ… презирает всё иностранное, а всё своё считает превосходным.» [1. С. 73]. Уже не раз упоминавшийся на этих страницах Фридрих-Христиан Вебер отмечал то же самое: в прошлом веке московиты были «самыми тщеславными и прегордыми из людей», «они смотрели на другие народы как на варваров», «их гордость заставляла думать о себе как о народе передовом» [3. С. 30].
В действительности страна начала европеизироваться ещё при Алексее Михайловиче. Но процесс этот шёл медленно, и народное сознание его не замечало, оставаясь в плену старых, традиционалистских и этноцентричных догм. Теперь же, при Петре, всё враз переменилось. Вдруг выяснилось, что Россия — вовсе не центр мироздания, потому как есть другие, «политичные», более передовые страны, обладающие сильным флотом и армией, развитой промышленностью, искусствами и науками. И больше того — не им у нас, а нам у них следует учиться. «Признание европейских народов более богатыми, процветающими, более сильными в военном отношении, превращение Европы в образец для подражания наносило сильнейший удар по базовым представлениям русского общества, видоизменяло саму систему скреплявших его идей», — подытоживает историк Ольга Агеева [3. С. 41–42]. Ещё бы, ведь необходимость брить бороду, носить чужую «европскую» одежду, переезжать в новый град Санктпитербурх (даже само название-то чужеземное!), строить себе там дом по иностранному образцу и жить в нём, как сроду не жил никто из предков, — всё это и многое другое было изменой вековому сознанию, заставляло отказаться от того, что вошло в плоть и кровь.
И всё ради чего? Чтобы принять то, чего прежде никто не видал, а, главное, не понимал, зачем это нужно? Многие московиты впали в отчаянье. Александр Пушкин в подготовительных текстах к «Истории Петра I» записал одно из фамильных преданий: «Жёны молодых людей, отправленных <царём> за море <учиться>, надели траур (синее платье)» [22. С. 226].