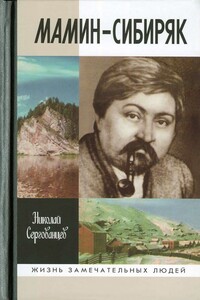Делакруа | страница 148
Восстание подавляли регулярные войска, национальная гвардия и так называемая подвижная, мобильная гвардия — мобили. Мобили особенно свирепствовали. Они были укомплектованы из подонков Парижа — из сутенеров, апашей, всякого рода бездельников, околачивавшихся в каждом бистро в надежде на угощение. Здесь им хорошо платили и бесплатно давали вино. Теперь они жаждали крови, они превратились в настоящих зверей. Регулярные части не доверяли им пленных, они их моментально прикалывали. Врываясь в какой-нибудь дом, где, как они полагали, укрывались мятежники, они штыками обшаривали каждый матрас и выпускали кишки каждому, кто им попадался,— женщина ли это, ребенок...
Еще в конце мая Эжен уехал из Парижа в свое убежище, в Шамрозе. Оттуда он написал Жорж Санд, которая, хотя и не скрывала своих симпатий к инсургентам, гражданскую войну считала губительной и вообще была против всякого применения силы.
«Вы хорошо сделали, что уехали, иначе вас могли бы обвинить в том, что вы строили баррикады. Вы справедливо заметили, что во времена, подобные нынешним, разум неуместен и что выстрел из ружья или пушки служит единственным аргументом в спорах. Я надеюсь по крайней мере отдохнуть здесь некоторое время. Ваш друг Руссо (Теодор Руссо, художник — А. Г.), видевший огонь единственно у себя на кухне, заявил в припадке воинственной экзальтации по поводу этой пресловутой республики: «Я предпочитаю свободу пополам с опасностями спокойному рабству». Я же, увы, придерживаюсь противоположного мнения; в особенности после того, как убедился, что свобода, купленная ценой жестоких баталий, не есть подлинная свобода, которая заключается в том, чтобы мирно бродить там, где вздумается, размышлять, обедать в раз навсегда определенное время, и еще во множестве вещей, о которых и не подозревают люди, взволнованные политикой. Извините мне, милый друг, мои ретроградные рассуждения и продолжайте любить меня, несмотря на мою неискоренимую мизантропию...»
Пока мобили зверствовали на парижских улицах и пока пылал его «Ришелье» в подожженном отчаявшимися инсургентами Елисейском дворце, он читал Марка Аврелия, ставшего теперь его любимым философом, хотя философию он вообще недолюбливал, считая ее занятием праздным и пригодным лишь для туманных немецких умов.
«Люди будут делать то же самое, хотя бы ты разорвался на части»,— утверждал Марк Аврелий, философ на императорском троне. Ничего не изменишь, разве только чуть-чуть. Ненавидя бои гладиаторов и опасные игры канатных плясунов, излюбленные римским народом, он распорядился только слегка затупить мечи, а под канатами постелить матрасы.