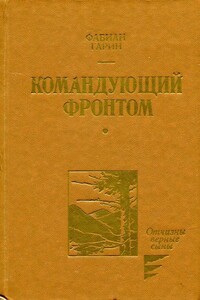Василий Блюхер. Книга 1 | страница 21
За год из Ярославской губернии уходили на отхожий промысел шестьдесят тысяч человек. Даниловский уезд поставлял печников и каменщиков, Мологский — пильщиков и плотников, Ростовский — огородников, Пошехонский — портных, а Угличский — трактирщиков.
Тяжела была жизнь питерщиков — так называли уходивших на промысел. Поэт Суриков выразил горести и печали своих земляков. Возвращается питерщик домой и думает про себя:
— Кончил я церковноприходскую школу, дальше бы пошел учиться, да где уж, — вздохнул Василий, — самого себя надо было кормить.
— Сколько же тебе лет в ту пору было? — спросил Кривочуб.
— Одиннадцать. Задира, никого не боялся, кроме знахарей. У брата моего Павки на загривке прыщ выскочил. Головой никак не повернет, спать не может. Позвала мать знахарку. Анкиндину-солоху. Не женщина, а страхолюд. Пришла она поздно, только когда огонь засветили, иначе не хотела. Стала Анкиндина высекать на Павкино лицо кремнем и огнивом искры и про себя причитает. Я в углу на корточках сижу, дрожу и боюсь. Утром Павка просыпается, а прыщ сгинул. С тех пор стал верить в знахарей.
— И теперь? — лукаво испытывал Кривочуб.
— Дурак я, что ли? — ухмыльнулся Василий. — Был мал — верил. Какой же парнишка в деревне не верит в знахаря?
Василий со слов отца помнил и старину. Отец его Константин рассказывал, как впервые познакомился с мужицким миром. Помнил, когда вокруг Ба́рщинки стояли болота да леса, как люди тайно собирались за светцом из лучины. За кушаком у каждого топор. Помнит, как однажды они ушли и до ушей его донесся звонкий гул топоров о вековые деревья. Помнит, как с ребятами побежали, голося: «Палы палить!» Побежал и Константин, перепрыгнул через канаву, опоясавшую обширную делянку, а дальше кучи хвороста. Появился огонь, по лесу треск пошел, пламя лижет иссохшую зелень, извивается змеей по земле. Столбы дыма поднялись в небо, вокруг птицы крикливо кружатся.
— И лес рубили, и палы палили, а бедность не переводилась, — закончил свой рассказ Василий. — Вот потому батя и пошел в маяки. Лежу это я как-то раз на голубце и думаю, что со мной будет, какую мне жизнь судьба уготовит. Вдруг вошел отец, обернулся лицом к образам, перекрестился, посмотрел на лубочные картинки, которые я развесил на прокопченных стенах, и говорит: «Пойду в Питер искать работу и Васятку прихвачу». — «Его-то зачем?» — спросила мать. «Пойдет по торговой части». На другой день отец надел картуз и длинную демикотоновую разлетайку. Меня одели в посконные штаны и холщовую рубаху. Перекрестившись, мы сказали матери: «Прощай!» — и пошли пешком на Питер.