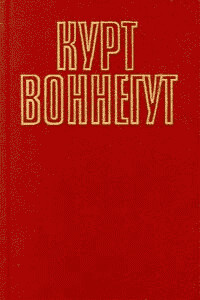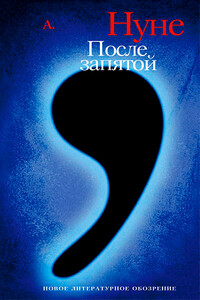Синяя Борода | страница 75
– А изображение этого безукоризненного орудия убийства на твоей картине должно быть настолько правдоподобным, – сказал он, имея в виду «Спрингфилд», – чтобы я смог его зарядить и выпалить по грабителю, забравшемуся в дом.
Он ткнул пальцем в небольшой выступ на дуле и спросил меня, что это такое.
– Не могу знать, – ответил я.
– Штифт штыкового крепления, – сказал он.
Мой словарь обогатится втрое, вчетверо, пообещал он мне, и начнем мы с деталей винтовки, у каждой из которых имеется свое название. От этого несложного перечисления, обязательного к изучению для любого новобранца, продолжал он, мы перейдем к каталогу костей, сухожилий, органов, трубочек и веревочек в теле человека – обязательному к изучению для любого студента-медика. Обязательному и для него самого в бытность подмастерьем в Москве.
Он заверил меня, что из изучения сперва простой винтовки, а потом головокружительно сложного человеческого тела я извлеку духовный урок – ведь именно для уничтожения тела винтовка и существует.
– Что здесь добро и что – зло, – спросил он, – винтовка или этот скользкий, трясущийся, хихикающий мешок с костями?
Я ответил, что тело – добро, а винтовка – зло.
– А известно тебе, что эта винтовка была разработана для американской армии, для защиты нашей чести и нашей родины от злобных врагов?
Тогда я сказал, что это зависит, чья винтовка и чье тело, и что и то, и другое может представлять и добро, и зло.
– И кому принадлежит последнее слово в этом вопросе? – спросил он.
– Богу?
– Да нет же. Здесь, на Земле.
– Не знаю, – сказал я.
– Художникам. И писателям, в том числе поэтам, драматургам и историкам, – сказал он. – Они – судьи в Верховном Трибунале Добра и Зла, и мое место – среди них. Как знать, может, и тебе когда-нибудь удастся стать его членом!
Вот это, я понимаю, мания морального величия!
И вот что мне сейчас пришло в голову: возможно, самое достойное качество абстрактных экспрессионистов, учитывая невероятное количество бессмысленного кровопролития, вызванного криво понятыми уроками истории, состоит в том, что они отказались заседать в подобном суде.
* * *
Я так долго, почти три года, продержался у Дэна Грегори по причине своей покорности, а также потому, что он нуждался в общении, поскольку большинство своих знаменитых друзей он отвадил яростными, беспощадными спорами о политике. Когда я упомянул в первом разговоре с ним, что слышал знаменитый голос Уильяма Филдса с верхушки парадной лестницы, он отозвался, что Филдсу путь в этот дом теперь заказан, как и Элу Джолсону, и всем остальным гостям, которые разделили с ним трапезу этой ночью.