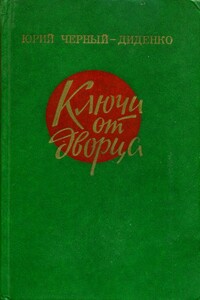Затишье | страница 84
Вот как подействовало на меня, понимаете ли, первое соприкосновение с судом в нашей победоносной армии. Вы согласитесь со мной, дорогой мой начальник и член военного суда Познанский, что запуганность, которую вы отметили во мне при первом нашем знакомстве, имеет под собой почву.
Познанский рассмеялся и, кивнув Бертину, допил свой кофе.
— С тех пор, слава богу, вы оправились и снова полны энергии — волокна расщепленного корнеплода соединились и срослись.
Бертин глубоко перевел дыхание.
— Слава богу, — подтвердил он. — Я оказался здесь среди людей, которые борются за право, хотя сами до известной степени принадлежат к привилегированным кругам общества. Если бы в нору моей службы на Западе я чувствовал такую же струю свежего воздуха, если бы она поддерживала во мне бодрость, процесс расщепления, быть может, не зашел бы так далеко. Но все, что меня тогда окружало, — изнанка наших кровавых окопов и огневых позиций, непрерывно нашептывало мне в уши: «Замкнись! Расщепись! Оденься в броню, но никому этого не показывай!» И все же на меня так и сыпались всякие мелкие беды.
— Оттого, что вы явно притягиваете их, по законам физики, — запальчиво и осуждающе сказал Винфрид.
Глава третья. Размышления на дежурстве
— Некоторое время я просто жил изо дня в день, сам не знаю как. История с Кройзингом камнем легла мне на душу. Я этот камень не тревожил, и он оставался во мне. Но ведь человек и состоит из того многого, что он носит в себе, и прежде всего ему необходимо время, чтобы после тяжелых вторжений душа могла вновь обрести равновесие. Ее, нашу душу, можно сравнить с жидкостью, в которой плавают частицы, различные по тяжести. Они не растворяются и обычно покоятся на дне хрупкими наслоениями, одно над другим. Но стоит, облачившись в тогу Судьбы, встряхнуть этот сосуд или помешать в нем — и все взвихрится. В таком состоянии помутнения я прожил, вероятно, весь июль, а может быть, и первые дни августа, не помню уже.
Работы в ту пору было много. Мы сидели в зарядной палатке, и на столы нам непрерывно подавались помятые и пустые гильзы, извлекаемые упаковщиками из корзин. Мы выпрямляли края гильз, заново закладывали пороховые заряды, закрывали крышками, заливали сургучом, потом ввинчивали новые капсюли и готовые заряды снова укладывали в корзины, уже вычищенные. Меня, как и перед отпуском, посадили на ввинчивание, но не было ни одной работы в этой палатке, которую бы я какое-то время не выполнял. Я не собираюсь излагать вам сейчас свое мнение о столь механизированном процессе труда. Мы коротали долгие часы за разговорами. Производительность наша была исключительно высока, но мы беспрерывно повышали ее, срабатываясь все лучше и лучше. Однако батареи пожирали все, что мы изготовляли. Француз повсюду переходил в контратаки. Стоило ему зашевелиться, как наша артиллерия, расположенная за линиями пехоты, начинала изрыгать бешеное количество залпов. Битва на Сомме, вам это известно лучше моего, потребовала самой современной техники. Из наших лесов, не задумываясь, снимали лучшие орудия, а нам, как резервам, оставляли только полевые батареи — стапятидесятимиллиметровые пушки и двухсотдесятимиллиметровые мортиры, орудия, в известной мере уже устаревшие. Несколько сорокадвухсантиметровых гигантов не делали погоды, тем более что французские летчики не позволяли им подолгу рявкать на одном месте. Они высматривали их, а затем страшный огонь крепостных и морских тридцативосьмисантиметровых орудий выводил их из строя. Случались у нас и разрывы самих пушек. Они производили страшные опустошения среди сорокадвухсантиметровых и их прислуги.