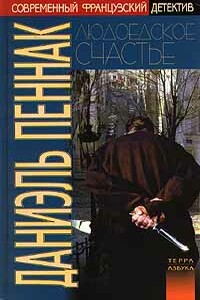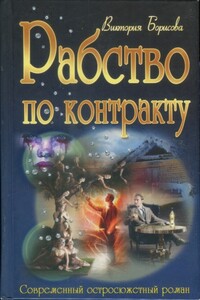Диктатор и гамак | страница 53
— Поэтому я и пью.
10.
Каким-то чудом он добирается до побережья живым. Линдберга будут чествовать за то, что он пересек Атлантику, а он вот пересек солнце — и ничего, ему даже не поверят. Он явился на край континента почти голым, без гроша, потому что надо учесть еще и бандитов, которые забрали у него все, кроме проектора и пленок, поскольку не знали, что с ними делать. Одним прекрасным днем он вырос из песков дюны, изголодавшийся, с сохшимися почками и слипшимися кишками. Когда он увидел море, которое знал только по фильму Чаплина «Иммигрант», его вырвало, как Чарли в «Иммигранте». При одном только виде прибоя сердце его скакнуло к самому горлу, спазмы раскололи его надвое, и он смеялся от счастья, исторгая маленькие струйки обжигающей желчи («в то время как мой зад пускал пулеметные очереди, совсем как зад Чарли»). Он смеялся не только потому, что достиг наконец моря, но еще и потому, что магия кино полностью завладела его существом.
— Я знаю тебя, старый океан, я знаю тебя лучше, чем ты сам, я видел тебя живьем в одном фильме, ну и, конечно же, меня вырвало!
Надо было срочно чего-нибудь выпить и поесть. В первом попавшемся ему таска[25] он выпросил себе за один сеанс показа блюдо из жареных щупальцев, спрыснутых кокосовым молоком. Хозяин заставил его крутить все его фильмы до тех пор, пока клиенты бара падали со смеху.
Так он и восстановил свои силы, спускаясь по побережью: он давал киносеансы в обмен на обед, приют, даже платье; затем, когда он наелся вдоволь и сумел прилично одеться, он стал требовать денег. Наученный опытом покойного кочующего оператора, он избегал растягивать свое белое полотно в центре больших городов, где правили бал владельцы кинозалов. Он решил показывать фильмы в уединенных местах, встречавшихся у него на пути. Некоторые из этих заведений (бордели доньи Таиссы, монастыри святой Аполлинарии) напоминали ему Терезину: они были настолько замкнуты в самих себе, что реальность проникала туда только через рассказы, в которые обитатели этих мест сами хотели верить. Он давал сеансы в казармах, пансионах, пограничных пунктах, а также в шикарных салонах и в богадельнях, где милосердные дамы спасают свои души, открывая двери смерти старикам, которым они ни за что не позволили бы перешагнуть порог их собственного дома. И везде он отмечал, что фильмы зажигали в людях то, что жизнь уже давно погасила. Кинематограф заставлял смеяться тяжело больных, прикованных к постели, и плакать взрослых, которые когда-то поклялись себе, что их уже ничто не сможет растрогать в этой жизни. С первых же движений ручки проектора забытые эмоции просыпались, чтобы взорваться возгласом удивления, расходясь волнами по поверхности жизни, которую давно уже принято было считать скучной и застывшей. Это были «О!» и «А!», и «Нет, но…», и «Вы видели?», и «Вы только посмотрите!». Умирающие сами поднимались на подушках, лица их светлели; у них были глаза, но кинематограф давал им способность видеть!