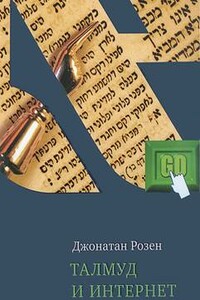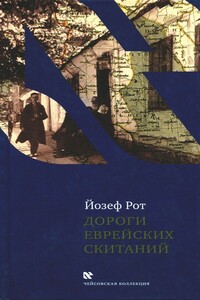Марк Шагал | страница 61
Вскоре после завершения работы над картиной «Одиночество» в жизни Шагала произошло знаменательное событие, которое обычно называют радостным: его восемнадцатилетняя дочь Ида (послужившая моделью для «Обнаженной над Витебском») вышла замуж за Мишеля Рапопорта, молодого юриста, тоже выходца из России.
Отношения Шагала с дочерью многие описывали как «взаимное обожание», и художник не скрывал этого. Пятнадцатилетняя Ида часто позировала для отца обнаженной, однажды даже случился маленький скандал, когда с разрешения Шагала фотография такой сессии была опубликована в журнале «Cahiers d’Art» («Тетради искусства»). Испанский поэт Рафаэль Альберти, впервые побывавший у Шагала в гостях в июле 1931 года, вспоминал: «Шагал писал портрет своей дочери, красавицы Иды — совершенно обнаженной, в лесу под деревом». Альберти был поражен увиденным. «О, эта девушка так хороша собой, что смотреть на нее под сенью листвы было истинное наслаждение. Разумеется, никакой эротики, ничего такого… ее отец не испытывал ложного стыда по этому поводу, равно как и она… В нем всегда чувствовалось нечто варварское, что-то от фавна, сатира, если угодно. Он ведь неверующий, в строгом понимании. Нет, он просто очень открытый человек, поистине свободный». Позже Альберти, верный этому «варварскому» образу, утверждал, что и «ничего еврейского» в Шагале тоже не заметил.
Даже если убрать Эрос, можно допустить, что свадьба Иды стала для Шагала ударом — он, вероятно, воспринимал это как вторжение в очень глубокие, доверительные взаимоотношения. Определенно, без понимания этого трудно объяснить странные холодность и отчужденность, пронизывающие его картину «Кресло невесты» (1934), написанную по случаю бракосочетания. Вместо невесты в кресле, накрытом белой шалью, не Ида, а гирлянда из белых цветов. Вместо жениха — огромный букет белых роз. Слева на столике, покрытом белой скатертью, — подсвечник на три свечи, рядом еще одна зажженная свеча (йорцайт?[38]). Сбоку на стене висит ярко чувственное полотно Шагала «День рождения». Разница в отношении Шагала к собственным ухаживаниям за Беллой и к бракосочетанию Иды и Мишеля очевидна. Как ни странно, из искусствоведов лишь один Франц Мейер, второй муж Иды, увидел в «Кресле невесты» намек на нежность, где «полный, явственный резонанс белого чудесным образом усиливают бледный табачно-коричневый, зеленый и нежные тона цветочных лепестков».
Как же все-таки мог такой наблюдательный человек, как Рафаэль Альберти, сказать, что не заметил в Шагале «ничего еврейского»? Похоже, Шагал был натурой двойственной. В Париже он представлялся одним из богемы, не самым злостным нарушителем общественных норм, и тем не менее, учитывая сеансы с обнаженной Идой и явное стремление выставить красоту ее тела на всеобщее обозрение, он все же не боялся нарушить некоторые условности, как и многие в его кругу. Но при этом он ежедневно читал еврейские газеты, издававшиеся в Париже на идише, и мог сказать Эдмону Флегу, очевидно не без иронии: «Я простой витебский еврей. Все, что я пишу, все, что делаю, весь я до мозга костей — за всем этим стоит простой еврей из Витебска». Конечно, это не объясняет, почему Шагал смог добиться такого ошеломляющего успеха на волне изменений, которые претерпевал на его глазах еврейский мир, заметно расширивший свои границы. Прошлое не отпускало художника, при всей его горячей и даже восторженной привязанности к вольному настоящему. Тем временем перед всеми евреями, решительно вступившими в новый мир, уже маячило грозное будущее.