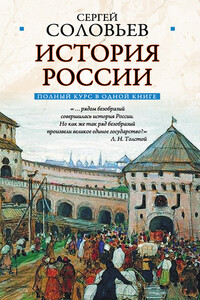Полный курс русской истории: в одной книге | страница 61
Первые князья
Олег варяжский (879–912 годы)
Итак, со второй половины IX века на землях восточных славян складывается Киевское княжество, во главе которого стоит сам князь и его военная сила, представленные не туземным населением, а пришлым варяжским элементом. То есть это государство с двумя градациями насельников – управляющим классом завоевателей и подвластным народом. Даже по самоназванию эти два элемента государства отличаются: правящий класс – русы, подвластный – славяне. И хотя русы довольно быстро теряют собственный язык, они не теряют главного – особого положения в государстве, они только наращивают власть над местными народами. Если славянское государство при хазарах по сути торговое, то при русах – военно-торговое. Для IX века и для земель славян образование подобного государства было даже благом, поскольку другим способом Днепровская Русь не смогла бы выстоять против восточных соседей. Хорошо организованные и отважные воины русов стали той силой, что остановила набеги восточных хищников. Славянам, по сути, выбирать было не из чего: либо под кочевников, либо под викингов. И викинги были все же получше печенегов. Но за эту «братскую» помощь с севера восточные славяне заплатили потерей политической самостоятельности, точнее, они были отстранены от управления в новорожденном государстве, этим занялись князья. Точнее, ведущую роль в управлении играл только один князь – киевский. Ключевский пишет, что непонятно, каким образом передавалась власть от князя к князю, но вероятнее всего не по праву наследования от отца к сыну, а по праву старшинства. Иначе сложно объяснить, почему легендарному Рюрику наследует не его сын Игорь, а ближайший сподвижник, и по одной из версий, племянник – Олег.
«Иногда всею землею правил, по-видимому, один князь, – размышляет над этим управительным казусом Ключевский, – но можно заметить, что это бывало тогда, когда не оставалось налицо русских взрослых князей. Следовательно, единовластие до половины
XI в. было политическою случайностью, а не политическим порядком. Как скоро у князя подрастало несколько сыновей, каждый из них, несмотря на возраст, обыкновенно еще при жизни отца получал известную область в управление. Святослав, оставшийся после отца малолетним, однако, еще при его жизни княжил в Новгороде. Тот же Святослав потом, собираясь во второй поход на Дунай против болгар, роздал волости на Руси трем своим сыновьям; точно так же поступил со своими сыновьями и Владимир. При отце сыновья правили областями в качестве его посадников (наместников) и платили, как посадники, дань со своих областей великому князю-отцу. Так, о Ярославе летопись замечает, что он, правя при отце Новгородом, давал Владимиру ежегодную урочную дань по 2 тысячи гривен: „…так, – прибавляет летописец, – и все посадники новгородские платили“. Но когда умирал отец, тогда, по-видимому, разрывались все политические связи между его сыновьями: политической зависимости младших областных князей от старшего их брата, садившегося после отца в Киеве, незаметно. Между отцом и детьми действовало семейное право; но между братьями не существовало, по-видимому, никакого установленного, признанного права, чем и можно объяснить усобицы между сыновьями Святослава и Владимира. Впрочем, мелькает неясная мысль о праве старшинства. Мысль эту высказал один из сыновей Владимира, князь Борис. Когда ему по смерти отца дружина советовала занять киевский стол помимо старшего брата Святополка, Борис отвечал: „Не буди мне възняти рукы на брата своего старейшего; аще и отець ми умре, то сь ми буди в отца место“».