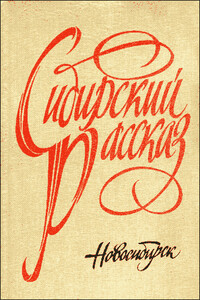Дорога испытаний | страница 24
Внезапно — стоп! Толчок. Все летят на железную стенку, что-то звенит, грохочет, раскатывается по железному полу.
Задний ход!
Впереди разбит путь.
В броню застучали пневматические молотки: поезд попал под обстрел.
Полный задний!
Но и позади уже разбит путь.
В смотровые щели пробивается яркий свет зажженных бронепоездом пожаров.
Кто-то падает, кто-то стонет, кто-то уже просит птичьим голосом: «Пить! Пить!»
— Вперед!..
— Назад!..
И так: вперед и назад, назад — вперед, только не останавливаться! Все время маневрируя, из всех орудий — огонь.
— Нет ли папиросочки, друг? — остановит кто-то по дороге.
Не нужна ему папиросочка. Он просто остановил, чтобы рассказать тебе, как удачно он дал ему.
Кто-то полуголый, жаркий, со снарядом в руках кричит в уши:
— Записал бы адресок, товарищ! — Он досылает тяжелый бронебойный. — И свой дай…
Вдруг в темноте спотыкаешься.
— Вакулинчук?
Он будто просыпается, будто возвращается откуда-то издалека:
— Пробились?
Он старше тебя, этот человек с глубоко врезанными сильными морщинами старого рабочего, намного старше, он годится тебе в отцы, но сейчас ты очень нужен ему. В минуту боли и слабости он чувствует в тебе силу духа, понимает, что ты видишь сейчас дальше этого темного, блиндированного в дыму и громе вагона, на железном полу которого он лежит раненый, плавая в крови, видишь и знаешь что-то такое, что и ему нужно знать. И, жадно придвигая к тебе лицо, он ждет…
Как дороги тебе эти ороговевшие рубцы морщин, обкуренные на кончиках усы, эти жесткие ласковые руки, которые всю жизнь имели дело с железом и огнем.
Зачем же он так нелепо умирает на железном полу, не увидев всего?..
Подставляешь к его рту жестяную кружку с теплой водицей и слышишь, как стучит она в зубы, — это озноб или движение поезда?
— Спасибо, сынок… — И снова куда-то далеко-далеко уплывает машинист Вакулинчук, в такой дальний рейс, которого еще не было никогда.
Вот так, «изучая настроение», иду, останавливаясь у орудий, в сизом дыму беседуя с наводчиками, отвечая на самые разнообразные вопросы обо всем на свете; задерживаюсь у раненых, выслушиваю их шепот так близко от лица, что чувствую запах крови и пота, и будто сам обливаюсь этой кровью и трудовым потом; иногда записываю адреса — имена отца и матери, братьев и сестер, сыновей и дочерей, чтобы после написать им письма. И когда во время такой беседы, или читки газеты, или песни внезапно как цветок раскроется душа человека и, бесконечно веря тебе, расскажет он то, что блеснуло в душе тихим и светлым воспоминанием, — тогда точно забываешь всю свою жизнь, остается только эта тесная железная, сотрясаемая грохотом взрывов, с запахом пороха и крови углярка. Вся жизнь — здесь, все твои интересы, мысли, вся нерастраченная молодая любовь с ними.