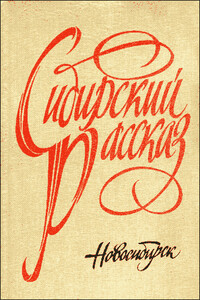Дорога испытаний | страница 23
— А Маркушенко-то силен в политграмоте! — басит кто-то из угла.
— Умие миркуваты, — заключает Вакулинчук.
Пока поезд гремел и бряцал на стыках рельсов и, извергая огонь, летел, железный, непобедимый, и вокруг были суровые рабочие лица людей, знающих, как стрелять во врага, я чувствовал себя сильным, храбрым, готовым вот так, на железном поезде, ворваться в самую гущу немецких войск, и передавить, перестрелять уйму фашистов, и, как я это видел на плакате, водрузить где-то там, на вражеском доте, красное знамя, и петь победную песню «Если завтра война…».
Но вот неожиданно на горизонте нависшее над дальним селом темное облако точно разорвалось, лопнуло и полыхнуло пламенем. В броневую обшивку забарабанили осколки, и неведомая сила прижала меня в холодный железный угол, и так вдруг сжалось сердце, и стало неуютно, и что-то противное, холодное засосало под самым сердцем.
И в это время я увидел над собой доброе усатое лицо Вакулинчука.
— Что, страшно? — спросил он.
— Н-нет, — сказал я, с усилием отклеиваясь от холодной брони.
— Страшно, страшно, сынок, — засмеялся Вакулинчук, — и мне было ой как страшно!
— А что это?
— Это еще ничего, — ответил он. — Не то будет. Но и то — ничего, — успокоил он.
Бронепоезд качало, как во время шторма.
— Привыкаешь, и, как в квартире, спишь, и картошку почистишь, и газетку почитаешь, вот как. Не бойся! — сказал Вакулинчук.
— А я и не боюсь.
— Ну вот и хорошо.
Снова забарабанили осколки, но теперь я уже мог наблюдать и видел, что на это не обратили внимания, лишь кое-кто только поднял лицо и с досадой поморщился, как на стук непрошеного гостя: «Ну, чего там еще?..»
Больше не стреляли, поезд снова гремел и бряцал на стыках рельсов, железный, непобедимый; в щели врывался и свистел ветер.
…На этот раз все началось так неожиданно — углярку сразу наполнил грохот, дым, — я даже не заметил, как начали стрелять.
— Эй, самураи! — сквозь грохот кричал полуголый, с наколотой русалкой на груди артиллерист, заряжая орудие.
Он воевал на Халхин-Голе, и с тех пор у него осталась привычка — в минуты азарта кричать: «Эй, самураи!»
Увидев после выстрела взметнувшийся и охвативший полнеба пожар, он кричал:
— Хватит на пироги? — Досылая новый зажигательный: — Давай поджаривай!
Он был так заметен среди других потому, что остальные работали молчаливо, спокойно, солидно; изредка нагибаясь и ковшиком зачерпывая в ведре теплую воду, жадно пили, и казалось, они у себя в депо, в грохочущей, горячей кузнице.