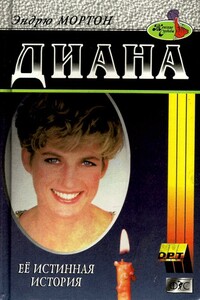Забытая сказка | страница 26
Судя по портрету отца, который всегда находился в комнате матери, снятый в форме Его Величества Лейб-гвардии Гусарского полка, он был военным, но я его помню в форме инженера путей сообщения. Когда мне было лет десять, он снял и эту форму и всегда был в штатском. На портрете он был совсем юный, почти мальчик. После его смерти около портрета всегда стояли цветы. Мать никогда не расставалась с этим портретом, и когда я попросила переснять его для меня, она сказала: «Он должен быть один».
Моя тихая, спокойная мать всегда терялась, когда я неожиданно входила в ее комнату, уже будучи взрослой, и заставала ее, сидящую в глубоком кресле с портретом отца в руках. Всякий раз ее отсутствующие глаза не сразу покидало оцепенение, затем она торопливо протирала стекло портрета, говоря: «Как запачкалось, запылилось», — стыдясь, скрывая всеми силами свою неловкость. Я оставила привычку входить к матери без спроса, что всегда проделывала с детства. Девчушкой я влетала бурей к ней и бурей вылетала, когда надо и не надо.
Много позднее я поняла, что мать стыдится и скрывает свое обожание, беспредельную любовь и преданность отцу и свою религиозность, и еще она буквально замыкалась, умолкала перед своей умной, своенравной, властной дочерью.
Я также поняла много позже, как мать любила отца, когда он уезжал по делам на две-три недели, она буквально вяла и вновь оживала по его возвращению.
Предсмертные слова моего отца: «Мать остается на твоих руках, помни». Я помнила, заботилась о ней, всегда была корректна, вежлива, но была холодна к ней. Я прошла мимо своей матери, мимо величия ее души.
Она же пронесла через свою жизнь крест — крест подвига кротости и смирения, черпая силы у Господа. Я никогда не слыхала от матери жалоб, недовольства, требований, упреков, каких-либо капризов. Она все принимала спокойно и иногда говорила, не Вам, а кому-то: «Да будет воля Божия». Когда я куда-нибудь уезжала, я приходила к ней накануне, а чаще за час до отхода поезда, и объявляла ей о своем отъезде. Она редко спрашивала, куда, зачем, надолго ли. Я целовала ее руку, она крестила меня, говоря: «Да хранит тебя Господь!». В эти слова она вкладывала всю душу свою. Голос ее делался глубоким, проникновенным, лицо менялось до неузнаваемости, глаза светились — продолжалось это мгновение — и тотчас вслед, стеснялась, прятала глаза, замыкалась. На меня это производило большое впечатление, всегда поражало, и я без ее благословения никогда, никуда не уезжала.