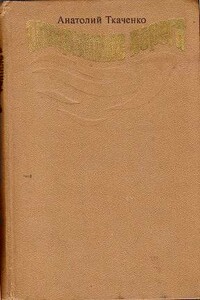Последний из рода Жахаима | страница 9
Выпили по полстакана, и началась еда — истовая, шумная, с прихлебыванием шурпы и обсасыванием костей. И опять почти не говорили — лишь изредка перепархивали и замирали отдельные слова, — ели, насыщались. И слышалось, как самые сильные едоки урчали желудками, постанывали.
Говорить начали позже, когда опустело блюдо, были подобраны лепешки, допита водка. Повариха вновь принесла воду и таз, дала умыться. Рыбаки отвалились на кошмы, подмяв под бока подушки. Я решил, что наступило время говорить, сказал:
— Хорошо живете!
Мухтар ответил что-то по-казахски, все засмеялись. Я заметил: в присутствии рыбаков он почти не произносил русских слов. Выло непонятно: намеренно он так поступает (чтобы показать приезжему свою независимость) или по старой бригадной привычке? Олжас, посмеявшись, перевел мне:
— Мухтарбай говорит: хорошо живем. Не жалуемся — живем. Одна жалоба есть — когда телевизор нам проведут?
Еще раз посмеялись, и я спросил:
— Сколько в прошлом году заработали?
Сразу наступило молчание. Одни начали закуривать, делясь табаком, другие отвернулись, будто не расслышали моих слов, крайний рыбак, откинув полы входа и впустив струю свежего воздуха, выполз наружу. Мне показалось, что я обидел бригадников своим простеньким вопросом.
— Много, — сказал Мухтар, глядя на острый, как лезвие, просвет входа и обволакивая лицо горьким дымом из трубки.
— Олжас, сколько ты получил? — дружески спросил я, освобождая других от этого вопроса.
— Не считал…
— Посчитай.
Олжас задумался, что-то соображая, перестал курить; и вдруг резко и сердито прозвучал голос Мухтара. Он сказал несколько слов, из которых я понял одно: «болды» — хватит, довольно.
Рыбаки поднялись, пригибаясь как в поклоне, заторопились из палатки. Мухтар откинулся на подушки, выпятив тяжелый живот, закряхтел, наслаждаясь расслаблением тела. Его потное, медно горячее лицо погрузилось в угол, в дымную полутьму, как бы медленно выпав из нашего обзора. Это означало: хозяин устал, отпускает отдыхать гостей, а что не прощается по обычаю — испортилось хорошее настроение.
Теперь почти наверняка я почувствовал какую-то свою вину, мне захотелось прямо спросить Мухтара: «Почему сердишься, бригадир?» Но Олжас схватил меня за руку, потащил из палатки.
Мглисто вечерело. С моря нагнеталась густая прохлада, и море было черным вдали от придавившей его тучи; верблюды лежали на сыром песке, поскрипывая зубами, жевали жвачку; дымился костерок, повариха мыла в тазу посуду, а рядом с нею тоненько и непрерывно ныл ребенок — даже издали чувствовалось, как он красен и горяч от жесткого дневного солнца. Рыбаки были в своей палатке, безмолвно укладывались спать.