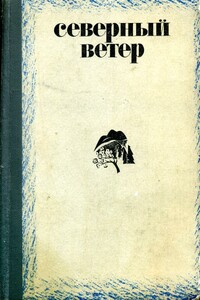Письма к сыну | страница 50
— Будем писать или как?..
— Да пожалей ты нас, батюшко ты наш! Да ниче у нас нет давно, все у нас заскребено.
— Врешь, ежкина мать… Сейчас пойду и проверю.
— Да пожалей ты нас, Климушко! — зарыдал Петунин. — Хоть сейчас иди проверяй. Я тебя везде проведу, покажу. Я тебе брюхо свое пополам разрежу — смотри только, мотай мои бедны кишочки… — Он еще хотел что-то добавить, но вдруг упал на колени.
— Климушко, не губи ты нас. Я же робить не могу… Я же увеченой.
— А ну встать! — рявкнул приезжий. — Я тебе не помещик, и ты не батрак.
Петунин поднялся. Его слегка пошатывало. Лицо кривилось, как от зубной боли. Моя мать, не стесняясь, плакала. Но на нее посматривал приезжий и брезгливо щурился..
— Не пойму вас, председатель. Заем не вытянем — кого обвиним? А я знаю кого… — Он рассмеялся. — Вот на вас тогда и напишем… Что? Не так? Нет, милая моя, будете персонально ответственны. Слышал, Петунин? А если слышал — расписывайся. — Он поднялся со стула и подошел совсем близко к Петунину. Они были одинакового роста, и глаза оказались на одном уровне. Петунин выдержал его взгляд:
— Не могу подписать, товарищ начальник. Христом-богом прошу — не могу…
— Я тебе не товарищ… Гусь свинье не товарищ, — опять повторил он и взялся за телефон. — Але, але? Это район? Ты слышишь меня, Василий Петрович? Ну вот хорошо. Тут у нас Петунин Яков… Да, Яков Петрович забастовал. Не хочет подписываться — и шабаш… Але, але? Я жду указаний. Что, я не понял? А-а, понятно. Значит, расстрелять его! Когда? Сегодня. Слушаюсь, Василий Петрович. Об исполнении доложу… — Приезжий прокашлялся, потом медленно перевел глаза на Петунина. На том лица нет. А щеки белые, ватные. Голос глухой, какой-то раздавленный:
— Ну давайте вашу бумагу…
— То-то же, а то, вишь, мерин какой необъезженный. Овес ест, а ездить не хочет.
— Вы б хоть не выражались, Клим Александрович! — попросила мать.
— С вами, председатель, я после… Пусть вначале подпишет.
И пока Петунин водил ручкой, озирался по сторонам, приезжий стоял на ногах. Когда тот вышел, он снова сел на стул и достал папиросу.
— Каков, а? Климушко, батюшко…
— У них трое уже опухли от голода, — сказала мать. Стало тихо. Только метель билась о стекла… Потом он опять застучал карандашиком.
— Кстати, председатель, вы, кажется, что-то хотели?
— Да ничего я, ничего не хотела…
— А все-таки?
— Бесполезно говорить, Клим Александрович, — громко вздохнула мать. — А если бы у человека сердце отказало, если бы смерть… За это же надо…